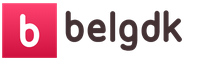Черный кот. Три орудия смерти (сборник). Эдгар Аллан По «Черный кот (The Black Cat) Черный кот эдгара по краткое
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Шрифт:
100% +
Эдгар Аллан По
Черный кот
1
© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2002.
Я не надеюсь и не притязаю на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший – и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение – это ясно, кратко, не мудрствуя лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас – они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху – многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение – такой человек, с умом, более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий.
С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немногое в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто, покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные Человеку.
Женился я рано и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот.
Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез – и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить.
Плутон – так звали кота – был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться за мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.
Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер – под влиянием Дьявольского Соблазна – резко изменились (я сгораю от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачней, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. Но болезнь развивалась во мне, – а нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю! – и наконец даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее, – даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава.
Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его; испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови, укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело; и злоба, свирепее дьявольской, распаляемая джином, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз! Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство.
Наутро, когда рассудок вернулся ко мне – когда я проспался после ночной попойки и винные пары выветрились, – грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаяние, смешанное со страхом; но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном.
Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал, едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мне привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом – к неотторжимым, первозданным способностям, или чувствам, которые определяют самую природу Человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей погибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию – к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла – и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку – повесил, хотя слезы текли у меня из глаз и сердце разрывалось от раскаянья, – повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю, – повесил, потому что знал, какой совершаю грех – смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута – будь это возможно – в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа.
В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик: «Пожар!» Занавеси у моей кровати полыхали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех пор отчаянье стало моим уделом.
Во мне довольно твердости, дабы не пытаться изыскать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий – и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все стены, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню – я объяснил это тем, что стена была оштукатурена совсем недавно. Подле нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова: «Странно!», «Поразите
конец ознакомительного фрагмента
Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".
The Black Cat
1843
Я не ожидаю и не ищу, чтобы кто-нибудь верил моему рассказу, в высшей степени странному, но вместе с тем очень простому. Да, я был бы сумасшедшим, если бы ожидал этого; мои собственные чувства отказываются верить самим себе. Но завтра я умру, и мне хочется облегчить свою душу. Моя ближайшая цель состоит в том, чтобы рассказать миру — просто, коротко и без толкований — ряд простых домашних событий. Эти события в своих последствиях ужасали, мучили и, наконец, погубили меня. Но я не буду делать попытки объяснить их. Для меня они не представляли почти ничего кроме ужаса, для многих же они вовсе не покажутся страшными. Может быть, впоследствии найдется какой-нибудь ум более спокойный, более логический и гораздо менее моего склонный к возбуждению. Он низведет мои призраки на степень самой обыкновенной вещи и в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без ужаса, увидит не более, как обыкновенный результат очень естественных действий и причин.
С детства я отличался уступчивостью и человечностью характера. Нежность моего сердца доходила до того, что сделала меня предметом насмешек со стороны моих товарищей. Я в особенности любил животных, и мои родители много их мне надарили. С ними я проводил большую часть времени, и высшим счастьем для меня было — кормить и ласкать их. Эта особенность моего характера росла вместе со мною и в летах мужества служила для меня одним из главных источников удовольствия. Свойство и силу наслаждения, происходящего от подобных причин, едва ли нужно объяснять тем, которые питали когда-нибудь нежную привязанность к верной и умной собаке. В бескорыстной и самоотверженной любви животного есть что-то действующее прямо на сердце того, кто имел частые случаи наблюдать жалкую дружбу и летучую, как пух, верность человека.
Я женился рано и был очень рад, найдя в моей жене наклонности, сходные с моими собственными. Заметив мою страсть к домашним животным, она при всяком удобном случае приобретала их, выбирая самых лучших. У нас были птицы, золотые рыбки, отличная собака, кролики, маленькая обезьяна и кот.
Этот кот был необыкновенно велик и красив, — совершенно черный кот, — и смышлен он был до изумительной степени. Говоря о его уме, моя несколько суеверная жена часто упоминала о старинном народном поверье, по которому все черные кошки — оборотившиеся ведьмы. Впрочем, она говорила это в шутку, и я упоминаю об этом обстоятельстве только потому, что именно теперь оно пришло мне на память.
Плутон — так звали кота — был самым любимым моим фаворитом. Никто кроме меня не кормил его, и в доме он сопровождал меня всюду. Мне стоило даже большого труда отгонять его, когда ему приходила фантазия сопровождать меня по улицам.
Наша дружба продолжалась таким образом несколько лет, в течение которых мои наклонности и характер, вследствие невоздержной жизни (стыжусь признаться в этом), потерпели радикальное изменение к худшему. Я становился с каждым днем угрюмее, раздражительнее, невнимательнее к чувствам других. Я позволял себе говорить дерзости жене, наконец, покусился даже на насильственные поступки против нее. Разумеется, и мои любимцы должны были почувствовать происшедшую во мне перемену. Я не только не обращал на них внимания, но и дурно обходился с ними. Однако же к Плутону я сохранял еще некоторое уважение. Оно удерживало меня от дурного обращения с ним, между тем как я нисколько не церемонился с кроликами, обезьяною и собакой, когда они попадались мне под руку случайно или по привязанности ко мне. Болезнь моя усиливалась, а какая другая болезнь может сравниться с пьянством? Наконец даже Плутон, который сам начинал стареть и, следовательно, делаться несколько брюзгливым, стал испытывать последствия моего дурного расположения духа.
Однажды ночью, когда я воротился домой сильно пьяный из одного часто посещаемого мною притона, мне вообразилось, что кот избегает моего присутствия. Я схватил его. В испуге он укусил мне руку, и мною вдруг овладело демонское бешенство. Я уж не помнил себя. Казалось, прежняя душа вдруг оставила мое тело, и каждая фибра во мне задрожала от дьявольской злобы, подстрекаемой джином. Я достал из жилетного кармана перочинный ножик, открыл его, схватил несчастное животное за горло и медленно вырезал у него один глаз! Я краснею, горю и дрожу при рассказе об этой ужасной жестокости…
Когда с наступлением утра рассудок воротился ко мне, когда продолжительный сон прогнал пары ночной попойки, я вспомнил о сделанном мною преступлении и почувствовал отчасти ужас, отчасти угрызение совести. Но это было слабое и двусмысленное чувство; душа оставалась нетронутою. Я опять предался излишествам и скоро потопил в вине всякое воспоминание о моем поступке.
Между тем, кот мало-помалу выздоровел. Правда, впадина вырезанного глаза представляла страшный вид, но Плутон по-видимому уже не чувствовал никакой боли. Он ходил в доме по-прежнему, только — как и должно было ожидать — убегал в страшном испуге при моем приближении. Во мне осталось еще настолько прежних свойств, что я сначала огорчался этим явным ко мне отвращением со стороны животного, которое когда-то было так привязано ко мне. Но скоро это чувство сменилось раздражением. Тогда, на мою окончательную и невозвратную гибель, во мне родился дух упорства. Философия ничего не говорит об этой наклонности. Но я убежден, столько же убежден, как, например, в существовании души, что упорство есть одно из первоначальных побуждений человеческого сердца, одна из нераздельных, основных способностей или чувствований, которые дают направление характеру человека. Кто не делал низостей или глупостей по той единственной причине, что не должен был их делать? Разве нет в нас постоянной страстишки — вопреки доводам здравого смысла, нарушать закон единственно потому, что это закон? Дух упорства, говорю я, явился во мне для моей окончательной гибели. Это непостижимое желание души мучить самое себя, насиловать собственную природу, делать зло ради зла, побуждало меня продолжать и, наконец, довершить мои жестокости относительно невинного животного. Однажды утром я хладнокровно набросил петлю ему на шею и повесил его на дереве. Повесил — несмотря на то, что слезы текли у меня из глаз; повесил — потому что знал прежнюю любовь его ко мне и чувствовал, что он не подал мне ни малейшего повода к жестокости; повесил — потому что сознавал в моем поступке грех, низвергающий мою бессмертную душу в ту бездну, до которой, если только это возможно, не достигает бесконечная благость.
Ночью, после этого дня, я был пробужден от сна криком: пожар! Занавески моей кровати были охвачены пламенем. Весь дом пылал. Жена, служанка и я с большим трудом спасли свою жизнь. Разорение было полное. Все мое имущество сгорело, и я предался отчаянию.
Я не буду так слаб, чтобы непременно отыскивать связь между следствием и причиной, между несчастием и жестоким поступком. Но я представляю цепь фактов и не хочу оставить незаконченным ни одного, ни даже самого малейшего звена этой цепи. Днем, после пожара, я посетил развалины. Стены все почти обрушились. Стояла одна только внутренняя стена, перегораживавшая дом посредине, стена нетолстая, к которой обыкновенно примыкало изголовье моей кровати. Должно быть, штукатурка оказала значительное сопротивление действию огня, — факт, который я приписывал тому обстоятельству, что стена недавно была оштукатурена заново. Возле этой стены собралась густая толпа народа и многие, по-видимому, рассматривали какую-то особую часть ее с очень пытливым и пристальным вниманием. Слова — «странно!» «необыкновенно!» и другие подобные привлекли мое внимание. Я подошел и увидел фигуру огромной кошки, как будто вылепленную в виде барельефа на белой поверхности стены. Оттиск был изумительно отчетлив. На шее животного была накинута веревка.
Когда я в первый раз взглянул на этот призрак (едва ли я мог тогда считать его чем-нибудь другим), мое удивление, мой ужас были чрезмерны. Но, наконец, на помощь мне явилось размышление. Я вспомнил, что кот был повешен в саду, прилегавшем к дому. В тревоге пожара толпа тотчас же наполнила сад; должно быть кто-нибудь снял кота с дерева и бросил его чрез окно в мою комнату. Вероятно, это было сделано с целью разбудить меня. Другие стены, падая, придавили жертву моей жестокости к новой штукатурке, известка которой, в соединении с огнем и аммониаком, выходящим из трупа, произвели портрет в том виде, как он был пред моими глазами.
Хотя я таким образом скоро дал отчет моему рассудку, если не совести, в поразительном, сейчас рассказанном мною факте, но тем не менее он сделал глубокое впечатление на мою фантазию. Целые месяцы я не мог избавиться от преследовавшего меня призрака. В это же время, опять явилось в моей душе то половинное чувство, которое имело вид угрызения совести, но не было им в действительности. Я даже жалел о потере животного и в гнусных притонах, обыкновенно посещаемых мною, искал, для пополнения этого недостатка, другого кота, сколько-нибудь похожего на прежнего.
Однажды ночью, когда я сидел в полусознательном состоянии среди позорнейшего кабака, мое внимание было внезапно привлечено чем-то черным, свернувшимся на одной из огромных бочек джина или рома, которые составляли главную мебель комнаты. Несколько минут я пристально глядел на верх этой бочки, удивляясь, каким образом я не заметил прежде лежавшего на ней черного предмета. Я подошел к нему и тронул его рукою. Это был черный кот, очень большой, совершенно такой же величины, как Плутон, и очень похожий на него во всем, исключая одного. Именно, Плутон был черен весь, с ног до головы, а этот кот имел широкое, хотя и неявственно обозначенное белое пятно, покрывавшее почти всю грудь его.
Когда я прикоснулся к нему, он громко замурлыкал, начал тереться о мою руку и, по-видимому, был очень доволен моим вниманием. Именно такого животного я искал. Я тотчас же вздумал купить кота и предложил хозяину заведения деньги, но хозяин не имел на него никаких притязаний, не знал, откуда он взялся, и никогда не видал его до этих пор.
Я продолжал ласкать кота и когда стал собираться домой, то он выказал желание идти за мною. Я не отгонял его и на пути иногда наклонялся и гладил его по спине. Он скоро освоился с домом и сделался большим любимцем моей жены.
Что касается до меня, то я скоро почувствовал возникающее в моей душе отвращение к нему. Я вовсе не ожидал этого чувства, но не знаю, как и почему, очевидная привязанность его ко мне была противна и надоедала мне. Мало-помалу отвращение перешло в горечь и ненависть. Я избегал животного, какое-то чувство стыда и воспоминание о моей прежней жестокости удерживали меня от нанесения ему физической боли. Несколько недель я не бил его и не делал ему никаких насилий; но постепенно, мало-помалу, я стал смотреть на него с невыразимым омерзением и молча уходил от его ненавистного присутствия, как от дыхания чумы.
Без сомнения к усилению моей ненависти к животному не мало способствовало открытие, сделанное мною утром после того, как я привел его к себе домой: подобно Плутону, он был лишен одного глаза. Это обстоятельство было причиною, что он еще более полюбился моей жене. Она, как я уже сказал, обладала в высокой степени тою человечностью чувства, которая была некогда отличительною чертою моего характера и источником многих самых простых и чистых моих удовольствий.
Странно, что вместе с моим отвращением к коту, привязанность его ко мне, по-видимому, усиливалась. Он ходил за мною по пятам с упорством, о котором трудно дать читателю надлежащее понятие. Где бы я ни сел, он уж подползет ко мне под стул, или вспрыгнет ко мне на колени, надоедая мне своими противными ласками. Когда я вставал, чтобы пройтись по комнате, он вертелся у меня под ногами, так что я чуть не падал, или же, цепляясь своими острыми когтями за мое платье, вскарабкивался ко мне на грудь. В такие минуты я сильно желал убить его одним ударом, но удерживался от этого частью воспоминанием о моем прежнем преступлении, а более всего (сознаюсь в этом за один раз) решительным страхом, который я чувствовал к коту.
Это не был страх собственно физического зла, и, однако же, я не сумел бы определить его другим образом. Я почти стыжусь признаться, — да, даже здесь, в тюрьме, стыжусь признаться, — что ужас и отвращение, которые внушало мне животное, были усилены одною из самых пустых химер, какие только можно себе представить. Моя жена не раз обращала мое внимание на белую отметку, о которой я говорил, составлявшую единственное видимое отличие этого кота от Плутона. Читатель вспомнит, что эта отметка, хотя большая, первоначально была очень неопределенна: мало-помалу, почти незаметно, она приобрела резкую явственность очертания. Рассудок мой долго силился отвергать это обстоятельство, как пустую игру воображения. Отметка теперь имела вид предмета, имя которого я содрогаюсь произнести… И преимущественно поэтому я ненавидел кота, боялся его и желал бы, если бы только смел, избавиться от чудовища. Я видел в его белом пятне изображение отвратительной, ужасной вещи — виселицы! — печального и грозного орудия ужаса и преступления, агонии и смерти!
С этих пор я стал истинно жалким существом, более жалким, нежели это свойственно человеку. Неразумное животное, которому подобное я убил с таким презрением, — неразумное животное было причиною нестерпимой пытки для меня, для человека, созданного по образу Божию! Увы! ни днем, ни ночью я не знал больше покоя. Днем кот не оставлял меня ни на минуту, а ночью я беспрестанно вскакивал, испуганный невыразимо страшными грезами. И проснувшись, я чувствовал горячее дыхание этой твари на моем лице и ее гнетущую тяжесть, — воплощение домового, которого сбросить я не имел силы, — вечно лежащую на моем сердце!
Слабый остаток добра в моей душе не мог выдержать такой пытки. Самые злые, самые мрачные мысли сделались моими единственными неразлучными товарищами. Обыкновенная угрюмость моего нрава усилилась и перешла в ненависть ко всем вещам и ко всему человечеству; моя жена, выносившая все безропотно, чаще и больше всех терпела от внезапных, беспрестанных и неудержимых взрывов бешенства, которому я теперь слепо предавался…
Однажды она шла вместе со мною за чем-то нужным по хозяйству в погреб старого дома, в котором мы принуждены были жить по бедности. Кот следовал за мною вниз по ступеням лестницы. Он чуть не сбил меня с ног, и это рассердило меня до сумасшествия. Подняв топор и забыв в ярости ребяческий страх, который до сих пор удерживал меня, я направил на животное удар, который без сомнения был бы для него гибелен, если бы попал туда, куда я целил. Этот удар был остановлен рукою моей жены. Раздраженный этим заступничеством, которое привело меня более чем в дьявольскую ярость, я вырвал у ней мою руку и топором разрубил ей череп. Она упала мертвою на месте, не испустив ни одного стона.
Совершив это гнусное убийство, я немедленно, но совершенно хладнокровно приступил к тому, чтобы скрыть тело. Я знал, что мне нельзя вынести его из дому ни днем, ни ночью, без риску быть замеченным соседями. В голову мне приходило много планов. Сперва я думал изрезать труп на мелкие куски и сжечь их; потом решил — вырыть могилу для него в погребе; потом стал размышлять, не бросить ли его в колодезь на дворе, или не положить ли его в ящик, как какой-нибудь товар и, сделав обычные распоряжения, призвать носильщика, чтобы вынести его из дома. Наконец я напал на мысль, которая мне показалась лучше всех этих планов. Я решился замуровать труп в стене погреба, как, говорят, монахи средних веков замуровывали людей, сделавшихся их жертвами.
Для подобной цели погреб хорошо был приноровлен. Стены его были сложены слабо и недавно покрыты грубою штукатуркой, еще не окрепшей от сырости воздуха. Сверх того в одной из стен был выступ, образованный фальшивым камином, который был заложен и подведен под общий вид остальных частей погреба. Я не сомневался, что легко могу вынуть в этом месте кирпичи, вложить туда труп и заделать все это по-прежнему, так что никакой глаз не будет в состоянии заметить ничего подозрительного.
Я не обманулся в расчете. Посредством лома я без труда выбил кирпичи и, тщательно прислонив труп к внутренней стене камина, подпер его, чтобы он держался в таком положении; затем я легко привел все в прежний порядок. Достав со всевозможными предосторожностями известкового раствора, песку и шерсти, я составил штукатурку, которую нельзя было отличить от прежней, и покрыл ею кирпичи. Окончив эту работу, я был очень доволен тем, что теперь все приведено в надлежащий порядок. Стена не представляла ни малейшего признака каких-нибудь перемен или переделок. Мусор на полу был мною тщательно подобран. Я с торжеством посмотрел вокруг и сказал самому себе: «по крайней мере, здесь труд мой не был напрасен».
Затем первым моим делом было — поискать кота, причину этого страшного несчастия; потому что я, наконец, твердо решился убить его. Попадись он мне в эту минуту, участь его была бы решена. Но хитрое животное, по видимому, испугалось силы моего гнева и не показывалось мне на глаза при подобном настроении духа. Невозможно описать или вообразить то глубокое, благодатное чувство облегчения, которое я испытывал вследствие отсутствия этой ненавистной твари. Кот не показывался всю ночь, и, таким образом, по крайней мере, одну ночь за все время с тех пор, как я привел его в дом, я спал крепко и спокойно. Да, спал, не смотря на убийство, лежавшее у меня на душе!
Прошло еще два дня — мой мучитель не показывался. Я опять вздохнул свободно. Чудовище оставило мой дом навсегда! Я не увижу его более. Так думал я и был в высшей степени счастлив! Мое преступление мало тревожило меня. Мне сделано было несколько допросов, но я отвечал на них без затруднения. Даже назначено было следствие, но ничего не было открыто. Я считал себя совершенно безопасным.
На четвертый день после убийства несколько полицейских совсем неожиданно явились в дом и снова начали делать строгий розыск на месте. Но будучи уверен в невозможности открыть, где спрятан труп, я не чувствовал ни малейшего замешательства. Полицейские велели мне сопровождать их при производимых ими поисках. Они не оставили ни одного угла или закоулка без исследования. Наконец в третий и в четвертый раз они сошли в погреб. Ни один мускул мой не дрожал. Мое сердце билось спокойно, как у человека, спящего сном невинности. Сложив руки на груди, я спокойно ходил по погребу туда и сюда, от одного конца к другому. Полиция была удовлетворена вполне и хотела выйти. Радость моего сердца была слишком сильна, и я не выдержал. Я горел желанием сказать только одно торжествующее слово и тем усугубить их уверенность в моей невинности.
— Джентльмены, сказал я наконец, когда полицейские начали уже взбираться по ступеням лестницы, желаю вам всякого здоровья и немного побольше вежливости. Сказать мимоходом, джентльмены, это — очень хорошо построенный дом. (В неистовом желании сказать что-нибудь непринужденным тоном, я едва знал, что говорил). Да, могу сказать, это превосходно построенный дом. Эти стены… вы уходите? эти стены сложены очень прочно. — Здесь, единственно из какого-то сумасшедшего молодечества, я сильно постучал бывшею у меня в руках тростью как раз в ту часть стены, за которою стоял труп моей жертвы…
Да защитит и сохранить меня Бог от когтей сатаны! Едва отголоски моих ударов замолкли, — мне на них ответил голос из могилы! Это был крик сперва глухой и прерывистый, похожий на всхлипывание ребенка, потом он перешел в долгий громкий и непрерывный вопль совершенно не человеческий и выходящий из ряда обыкновенных звуков, — в завыванье, в жалобный, пронзительный визг, в котором слышались частью ужас, частью торжество. Словом: это был звук, который может выйти только из ада, звук, в котором были соединены и вопли осужденных на вечную муку грешников и крики ликующих демонов.
Безумно было бы говорить о том, что я чувствовал в эту минуту. Я едва не упал в обморок, и, шатаясь, пошел к противоположной стене. Один миг полицейские оставались неподвижными на лестнице от крайнего страха и ужаса. В следующий — дюжина сильных рук ломала стену камина. Она упала. Глазам зрителей представился труп, уже сильно попортившийся и покрытый запекшеюся кровью, который стоял против них в прямом положении. На голове его, разинув красный рот и выпучив единственный огненный глаз, сидело гнусное животное, коварство которого привело меня к убийству, а обличительный вопль предал меня палачу. Я похоронил чудовище вместе с трупом моей жены!
Эдгар Аллан По
ЧЕРНЫЙ КОТ
Я не надеюсь и не притязаю на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший - и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение - это ясно, кратко, не мудрствуя лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас - они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху - многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение - такой человек, с умом, более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий.
С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немногое в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные Человеку.
Женился я рано и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот.
Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез - и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить.
Плутон - так звали кота - был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться со мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.
Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер - под влиянием Дьявольского Соблазна - резко изменились (я сгораю от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачнее, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. По болезнь развивалась во мне, - а нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю! - и наконец даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее, - даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава.
Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его; испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело; и злоба, свирепее дьявольской, распаляемая джином, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз! Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство.
Наутро, когда рассудок вернулся ко мне - когда я проспался после ночной попойки и винные пары выветрились, - грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаянье, смешанное со страхом; но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном.
Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал, едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мпе привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом - к неотторжимым, первозданным способностям, или чувствам, которые определяют самую природу Человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей погибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию - к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла - и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку - повесил, хотя слезы текли у меня из гл:аз и сердце разрывалось от раскаянья, - повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю, - повесил, потому что знал, какой совершаю грех - смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута - будь это возможно - в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа.
В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик: «Пожар!» Занавеси у моей кровати полыхали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех нор отчаянье стало моим уделом.
Во мне довольно твердости, дабы не пытаться изыскать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий - и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все степы, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню - я объяснил это тем, что стена была оштукатурена совсем недавно. Подле нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова: «Странно!», «Поразительно!» и всякие восклицания в том же роде возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел на белей поверхности нечто вроде барельефа, изображавшего огромного кота. Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была веревка.
Сначала этот призрак - я попросту не могу назвать его иначе - поверг меня в ужас и недоумение. Но, поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводнила толпа - кто-то перерезал веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Возможно, таким способом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины притиснули жертву моей жестокости к свежеоштукатуренной перегородке, и от жара пламени и едких испарении на ней запечатлелся рисунок, который я видел.
Хотя я успокоил если не свою совесть, то, по крайней мере, ум, быстро объяснив поразительное явление, которое только что описал, оно все же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота; и тут в душу мою вернулось смутное чувство, внешне, но только внешне, похожее на раскаянье. Я начал даже жалеть об утрате и искал в грязных притонах, откуда теперь почти не вылезал, похожего кота той же породы, который заменил бы мне бывшего моего любимца.
Эдгар Аллан По
ЧЕРНЫЙ КОТ
Я не надеюсь и не притязаю на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший - и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение - это ясно, кратко, не мудрствуя лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас - они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху - многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение - такой человек, с умом, более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий.
С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немногое в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные Человеку.
Женился я рано и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот.
Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез - и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить.
Плутон - так звали кота - был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться со мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.
Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер - под влиянием Дьявольского Соблазна - резко изменились (я сгораю от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачнее, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. По болезнь развивалась во мне, - а нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю! - и наконец даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее, - даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава.
Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его; испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело; и злоба, свирепее дьявольской, распаляемая джином, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз! Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство.
Наутро, когда рассудок вернулся ко мне - когда я проспался после ночной попойки и винные пары выветрились, - грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаянье, смешанное со страхом; но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном.
Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал, едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мпе привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом - к неотторжимым, первозданным способностям, или чувствам, которые определяют самую природу Человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей погибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию - к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла - и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку - повесил, хотя слезы текли у меня из гл:аз и сердце разрывалось от раскаянья, - повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю, - повесил, потому что знал, какой совершаю грех - смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута - будь это возможно - в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа.
В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик: «Пожар!» Занавеси у моей кровати полыхали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех нор отчаянье стало моим уделом.