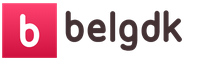Книжные Эвересты: самые трудные для прочтения романы. Рейтинг самых трудночитаемых книг в истории
Joseph McElroy
I always think of the child as a girl. What if it’s a boy?
Oh, it couldn’t be. .
Martha Martin, Revelations, Diaries of Women
Nothing new here, except my marrying, which to me, is matter of profound wonder.
A. Lincoln, Letter to a fellow lawyer, November 9, 1842
My thanks to Alice Quinn, my editor at Knopf, for hours, weeks, and months she spent on this book. Thanks also to Margaret Cheney, the copy editor, who has followed every parenthesis and sentence with the most exacting attention. And thanks to my friend Robert Walsh, a young writer and editor of great gifts, who has read the book several times and encouraged me at every turn to believe in the American heart of its common sense and heartfelt and humorous extremities. And thanks to Chris Carroll for help when I needed it.
My thanks also to the Guggenheim Foundation and the National Endowment for the Arts for grants, and to Queens College of The City University of New York for paid time-off from teaching, and to the University of New Mexico for the D. H. Lawrence Fellowship in San Cristobal, New Mexico.
division of labor unknown
After all she was not so sure what had happened, or when it had started. Which was probably not a correct state to be in, because what had happened made the biggest difference in her life so far. Hours of life that worked her back full to breaking of pain and drained it of its work when the back of her child’s head with a slick of dark hair and its rounded shoulders gave her that last extra push to free its arms still held inside her. She would tell her husband later - she knew she would - and she did tell him. She told her husband and he told others for weeks afterward. Also he had his own side to tell. She loved his excitement.
Pain all in her back worked free of her at the end, dropping away into a void below, and it could almost not be recalled. This pain had been new and undreamt of. As new as the height of the young obstetrician whom she had never seen until she arrived at the hospital, he stood in surgical green against the ceiling above her head, then at her feet, at a distance down there between the stirrups tilting his head this way and that way between her thighs, and the green cap on his head was as far away as the bright, fairly unmetallic room she was giving birth to her child in, and the young obstetrician’s words were the talk that went almost and sharply along with the pain her husband Shay - she was thinking of him as Shay - also in surgical green, could not draw off into the ten-buck pocket watch he’d timed her with (where was it? in a pocket? mislaid? she didn’t care where it was). Her husband Shay’s chin hung close to her; I will always be here, his chin might have said, and his hand out of sight somewhere gripped hers, his hand might have been invisible for all she knew; but then he had to see for himself what was going on at the other end and he moved down to the foot of the delivery table and he peered over the doctor’s shoulder as if they were both in it together, and then Shay half looked up from that end against his better judgment she was sure and frowned at her but with love smiled the old smile. He needed a shave, his tan had grown seedy. The doctor stood up between her thighs and said they were getting there.
She was just with it enough to be embarrassed and so she didn’t say she didn’t want Shay down there looking. He was already there. Her baby had changed. It had felt older last week, older than their marriage. One night he had told her with his tongue just what he would do to her when the head began to show, and she didn’t think he meant it but she didn’t tell him. Now he heard her pain. He couldn’t see it. She could see it on the blank ceiling, oh God oh blank, and it was coming to birth, that pain, and would always be there like a steady supply of marrow-to-burn mashed out of her from her skull downward.
The men there between her thighs said, "Hey" and "Oh" at the same time (doctor, husband, respectively). They spoke at once, like song.
What’s she look like down there? Oh God oh God. What’s she sucking spitting look like down sucking splitting there? Look like? Well, she never really had known, so why should she know now? A saddle of well-worked mutton? A new dimension of Her. Later she was encouraged to recall it all. As if she did.
Afterward she did recall a thought about being an invalid that had escaped her during the pain, the labor, and came back at a later moment of the pain when she was not really trying very hard to recall another, different thing that she couldn’t at that moment even refer to (so how did she know there was anything to recall?), it suddenly quite naturally during the pain took the place of the invalid insight and it had to do with Shay moving the way he moved when they were at last in the delivery room and he’d been at her side holding her hand. He moved then slowly away from her head to the foot of the delivery table to look at the very top of the baby’s head (girl head or boy head). But also at the part of her he said opened like an animal looking to be a flower. But now with the baby coming down, she was pushing against what Shay would be seeing, whatever that was, and the thing that had come to her had to do with his moving from one end of her to the other, from the upper part where her eyes were, downward - the way he did it, walked to the foot of the table, and the way this turned her into something but she lost it - had it, lost it, a wrinkle in her mind somewhere stirred like the start of a laugh- and later she found herself recalling this thing about being an invalid: that, here she was perfectly healthy, never more, and healthier than Shay with his sinus; and in order to have this baby she had to become an invalid, and she got the picture again of her recurrent dream she’d never told Shay, of gazing out the endless window of her lab and seeing a man led to execution who she learned had been in the hospital getting better for several weeks until he was able to have the punishment executed on him which then she saw was a thousand and one strokes; then he was to crawl back to the infirmary he had just walked out of: but she saw that her thinking was incorrect and she was not an invalid at all, she was using herself, that was what she was doing, being fruitful. Her husband had hated his first name when he was eleven and had been Dave for a while and then, of all things, Shay, he hadn’t gotten over it, she called him Shay sometimes, hadn’t gotten over what? it sounded like a movie actor. What is the fruit of a cross between an animal and a flower?
The men looking her over, head to toe, were glad to be there and so was she to have them, and so was the nurse and so was she to have the nurse and so were they to have the nurse, and so were they glad to have her and her pain and the baby that she could remember looking ahead to: the truth was not head to toe, it was the men looking when they couldn’t see in, until they saw what was coming out to meet them, which was nice, wasn’t it.
How did you feel?
It was (she sips the last of her daiquiri which now is not so chilled) the most beautiful experience of my life. No, it was rough, it was painful, but I couldn’t remember all the pain. It was an experience I wouldn’t have missed.
She was glad it was ending, glad Shay wanted to be there with her, she was alone with her pain whittling at her, but no, we are not alone.
Shay and the chin he was hitched to moved away but down and near the foot of the delivery table in the bright delivery room, and he moved politely as if he didn’t want to notice himself moving. She found on his face a pursed-lip fixity sharing her pain, she knew he shared it. It was love. She was glad, so glad. She couldn’t have done it without him, later that was what she was telling everyone again. Having apparently already told them. For how else could there be an again? She heard herself.
And recalled the word for what Shay had made her into when he respectfully moved with a Sunday museum-goer’s slowness, from her higher to her lower, from her eyes and dry mouth that he’d kissed and that hadn’t changed, to the action down there - she thought of him as Shay during the labor - and he mustn’t look back at her, this was what she felt, or felt he felt, as if he could share her labor only by not looking back at her. Well, it wasn’t as if she couldn’t have had a mirror to follow the action. But he, who had been impatient for the baby to come and who had said the time had never gone faster, had looked along her length so that by his slowness she had become a model.
Of what? A model of a woman on a scale not to be sniffed at.
Still, a model. A model woman? In the mouths of others. Scientist, lover, mother of a fetus nearing term, nutritionist at the bar of the breakfast nook, creator soft and trim who’d give you a hand and a thigh, demonstrate relative acceleration, share a birth with you, be tracked by your pocket clock through space to the next contraction (breathing quick and regular, hhh - hhh - hhh - hhh, as she and Shay had been shown at the natural childbirth sessions), while she’d often said (knowing she will often later say) that she must have (later had had ...
Перевод Александр Яворский
Если учитывать откровенно премодерновый обертон слова «канон» - может сложиться впечатление, что сама идея постмодерна выглядит как терминологический курьез. И в самом деле - один из подходов к построению постмодернистского канона раздвигает рамки настолько широко (Кэти Акер , Филип К. Дик, Grandmaster Mele Mel), что этот термин становится бессмысленным. Впрочем, в узких кругах литературной критики с каноническим постмодернизмом принято связывать, как правило, группы белых писателей определенного возраста: Барт и Бартелми, Гэддис и Гэсс, Делилло, Кувер и Пинчон.
Очевидно, что этому канону, как и предшествующему ему, не чужды упущения. И все же, в свете литературной демографии, кажется вдвойне непонятным тот факт, что Джозеф Макэлрой, которому в нынешнем году исполняется 79 лет , так настойчиво игнорируется перечнями мастеров po-mo. Подобно своему коллеге-тяжеловесу Томасу Пинчону, Макэлрой является автором восьми романов, знаменательных поистине энциклопедическим размахом изображения современной жизни. Вот что пишет The New York Times :
Эта книга принадлежит к максималистскому подвиду постмодернистского романа, к которому относятся Gravity’s Rainbow , The Recognitions и Underworld . Хотя, такая принадлежность сродни принадлежности Chevy Suburban к автомобильному классу «легких грузовиков» или Андрэ Гиганта к Мировой Федерации Рестлинга.
Если про другие книги из этой же категории можно сказать, что им тесно на пятачке жанра, то Women and Men будет тесно и на целой литературной автостоянке. Если другие книги представляют собой серьезную форму литературного исчисления, то Women and Men - это теория хаоса. И, раз уж на то пошло, если они объемные - Women and Men куда объемней. Приблизительно 700000 слов (около 1192 убористо отпечатанных страниц) - это в полтора раза больше, чем «Война и мир».
Роман попал в руки продвинутых читателей в 1987 году в виде двух 600-страничных томов. Обозреватель The New York Times не скрывал, что потратил на прочтение книги всего пару дней. Отсюда и его тон, в котором смешались признание амбициозности романа с плохо скрываемой досадой на то, что он вынужден был его прочитать. Типичный критический отзыв. По всей видимости, аудитория, интересующаяся художественной литературой, нуждалась в небольшом поощрении, чтобы проигнорировать книгу весом 4 фунта в твердом переплете. И Women and Men , на написание которых, по имеющимся сведениям ушло порядка 10 лет, стали не издательским событием, а скорее разочарованием.
Так случилось, что я питаю слабость к аутсайдерам, как впрочем, и к постмодернистским мега-романам; обзаведясь некоторым количеством свободного времени прошлым летом, я приобрел «нечитанное» первое издание Women and Men за что-то в районе 10 баксов. Я таскал эту книгу за собой повсюду шесть недель, читая в среднем около 30 страниц в день. И мне быстро стало понятно, почему эту книгу так мало читают. А впоследствии я обнаружил, что по некоторым причинам так и должно быть.
Почему это нужно прочесть… после прыжка.
Помимо вопроса о длине текста, я вскоре наткнулся на вопрос о его сложности. Фабула романа - сюжет и конспирация одновременно, - и, надо сказать, среди запутанного изложения Макэлрой делает немногочисленные уступки, предвидя некоторые читательские затруднения. На уровне сюжета Women and Men повествует о соседях по дому - Джиме Мэйне и Грэйс Кимбэлл, которым никак не удается встретиться. А уровень конспирации, в свою очередь, обнаруживает бесчисленное количество связей между ними, прослеживает личные и политические интриги, простирающиеся от Пиночетовского Чили до индейцев Пуэбло на мысе Кеннеди в Нью-Мексико.
Макэлрой предпочитает изымать ключевые моменты этих связей, и это значит, что важнейшие сюжетные загадки остаются неразрешенными - словно замкнутая цепь, одновременно включенная и выключенная. Кроме того, роман ошеломляет (полагаю, преднамеренно) память читателя. Поначалу это разочаровывает. Однако, впоследствии, делает его особенно «живым»: ближе к финальным эпизодам каждая деталь мобилизуемая писателем, буквально каждое слово резонирует с полузабытыми ассоциациями. Это и есть философский метод макэлроевского безумия. Там, где постмодернистский «черный юмор» постулирует нестабильность изложения как посягательство на истину, экстатический бренд Макэлроя призывает нас к восприятию истины как суммы всех способов ее изложения.
В погоне за своим плюралистическим видением, Джозеф раздвигает границы языка. Его интерлюдии, чем-то напоминающие рассказы, демонстрируют способность к строгому, простому письму, но, между прочим, Women and Men распухли из-за содержания в них длиннейших и затейливейших сентенций, когда-либо написанных на английском языке. Их манера основана непосредственно на матрице нью-йоркского диалекта и специализированных дискурсов (наука, мифология, теология, метеорология, экономика). Все же, известная длина и макэлроевские «синтаксические матрешки» требуют от читателя бдительности и терпения.
Тем не менее, если вы сможете втянуться - Women and Men обернутся для вас авангардистской вариацией на тему того, что старый добрый Генри Джеймс окрестил «осязаемой близостью». Позади, между и внутри композиционно-убийственных дебрей информации, роман транслирует неописуемо плотную фактуру жизни в Нью-Йорке конца 70-х: как научить своего ребенка кататься на велосипеде в парке, каково бродить вокруг Мэдисон Сквэр Гарден после наступления темноты и все в таком духе. Более того, Макэлрой описывает невероятные жизни Джима и Грэйс с большим остроумием, настойчивостью и изрядной долей человеческого тепла. Именно эти старомодные добродетели заставили меня прочесть роман до конца.
А критики их не заметили в 1987 году, и реакция на роман будто бы разоблачила скрытую враждебность по отношению к бескомпромиссной эстетике Макэлроя. Реакция на его следующую книгу, куда более утонченную The Letter Left to Me , немногим отличалась от той, которой были встречены головокружительные романы 70-х. Впоследствии Макэлрой расстался со своим давнишним издателем Альфредом А. Кнопфом. В 2003 Actress in the House обретет свой издательский дом в лице Нью-Йоркского Overlook Press . С тех пор это издательство выпустило в мягких обложках переиздание двух первых романов Макэлроя, но Women and Men по-прежнему ожидают своего часа. Европейцы, очевидно, высоко оценивают этот роман, а в Штатах работа Джозефа перекликается с пассажем о творчестве композитора в романе The Recognitions Уильяма Гэддиса: «О нем все еще говорят с большим уважением, как во времена известности, хотя и редко играют».
Быть может, вполне уместно, что Women and Men как апофеоз определенной ниши американской словесности вызвал, а может и развил, амбивалентные чувства среди читателей по поводу постмодернистского мега-романа в целом. В самом деле, ваше отношение к его современникам вполне может быть хорошим индикатором того, как вы отнесетесь к самому Макэлрою. Для читателя, находящего Gravity’s Rainbow тяжеловесным романом, Women and Men покажутся неоправданной книгой.
Как бы там ни было, мне кажется, что подобное отстранение происходит из ошибочной идеи, которая заключается в том, что наша работа состоит в декодировании произведения, когда от нас требуется лишь полное погружение в него. Эта идея провозглашалась постмодернистами настолько же истово, как и их предшественниками-модернистами. Таким образом, Макэлрой может стать жертвой постмодернизма в той же степени, в какой он является его мастером. Однако, не похоже, чтобы это его сильно волновало. Он по-прежнему живет в Нью-Йорке и пишет: то о Стиве Эриксоне для Believer , то об 11 сентября для Electronic Book Review , то о Гао Синцзяне в The Nation . Может быть, он и потерянный постмодернист, но он находится прямо у нас под носом, ждет, пока его найдут.
Beginning in childbirth and entered like a multiple dwelling in motion, Women and Men embraces and anatomizes the 1970s in New Yorkfrom experiments in the chaotic relations between the sexes to the flux of the city itself. Yet through an intricate overlay of scenes, voices, fact, and myth, this expanding fiction finds its way also across continents and into earlier and future times and indeed...
Beginning in childbirth and entered like a multiple dwelling in motion, Women and Men embraces and anatomizes the 1970s in New Yorkfrom experiments in the chaotic relations between the sexes to the flux of the city itself. Yet through an intricate overlay of scenes, voices, fact, and myth, this expanding fiction finds its way also across continents and into earlier and future times and indeed the Earth, to reveal connections between the most disparate lives and systems of feeling and power. At its breathing heart, it plots the fuguelike and fieldlike densities of late-twentieth-century life.
McElroy rests a global vision on two people, apartment-house neighbors who never quite meet. Except, that is, in the population of others whose histories cross theirsbelievers and skeptics; lovers, friends, and hermits; children, parents, grandparents, avatars, and, apparently, angels. For Women and Men shows how the families through which we pass let one person"s experience belong to that of many, so that we throw light on each other as if these kinships were refracted lives so real as to be reincarnate.
A mirror of manners, the book is also a meditation on the languagesrich, ludicrous, exact, and also Americanin which we try to grasp the world we"re in. Along the kindred axes of separation and intimacy Women and Men extends the great line of twentieth-century innovative fiction.
Книга «Women and Men»
автора Макэлрой Джозеф оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 5.76 из 10.
Для бесплатного просмотра предоставляются: аннотация, публикация, отзывы, а также файлы на скачивания.
В нашей онлайн библиотеке произведение Women and Men
можно скачать в форматах epub, fb2 или читать онлайн.
.
Работа Макэлрой Джозеф «Women and Men»
принадлежит к жанру «Современная проза»
.
Онлайн библиотека КнигоГид непременно порадует читателей текстами иностранных и российских писателей, а также гигантским выбором классических и современных произведений. Все, что Вам необходимо - это найти по аннотации, названию или автору отвечающую Вашим предпочтениям книгу и загрузить ее в удобном формате или прочитать онлайн.
...декабря 27, 2013
Кто написало самый сложный текст для восприятия?
Секрет чтения
Люди читают книги по разным причинам. Одни ради развлечения и времяпровождения, другие в силу какой-либо необходимости для получения информации, третьи для самообразования и повышения уровня своего развития. Причин очень много, жанров литературной направленности еще больше, и соответственно счет авторов и книг идет на миллионы. Как известно - любое литературное произведение находит своего читателя.
Осмысленность и целостность

А по каким параметрам определяется литературная ценность того или иного текста? Одинаково ли восприятие одного и того же автора у различных категорий читателей и как вообще тот или иной автор становится классиком? Конечно, основным критерием качественного произведения является его литературная идея и что самое главное - читабельность текста, его структура и смысловая нагрузка. Ведь текст - это не просто набор слов, это последовательное выражение мысли автора путем словосплетения.
И даже самый сложный текст должен сохранять осмысленность и целостность. И именно исходя из всех этих взаимодействующих правил построения текста - оценивается автор, его произведение и основная мысль, доносимая до читателей. На фоне тысяч писателей и миллионов различных книг, на фоне литературных "пустышек" и просто безграмотного построения текстов, лишь немногие авторы и их книги завоевывают мировую известность и попадают в категорию классической литературы, то есть становятся авторами, которые внесли свой бесценный вклад в развитие мировой литературы и соответственно в духовное развитие нации.
Зарядка для ума

Если брать в расчет интеллектуальную нагрузку произведения, то конечно здесь большое значение имеет механизм построения текста, сложность его восприятия и основный смысл, который раскрывается в процессе прочтения. И чем сложнее этот узор повествования, тем более ценным становится произведение для искушенного высокообразованного читателя. Существует список десяти наиболее сложных для восприятия авторов, внесших свой интеллектуальный вклад в литературу. Вряд ли прочтение этих книг доставит удовлетворение большинству, но несомненно, будет полезной зарядкой для ума и поспособствует интеллектуальному развитию личности.
Джозеф МакЭлрой "Женщины и мужчины"
Первое место в рейтинге самых сложных книг занимает американский писатель Джозеф МакЭлрой со своим произведением "Женщины и мужчины". Этот поистине сложный текст считается классикой американского постмодернизма и к тому же авторский неповторимый стиль именно этого романа считается тяжелейшим для восприятия прозаическим произведением в мире. К сожалению, на русский язык эта книга не переведена, а потому русскому читателю пока вряд ли удастся составить свое мнение о литературной сложности и восприятии данного текста.

Какими бы ни были литературные предпочтения большинства читающих масс, но любые книги имеют право быть, читаться, восприниматься и обсуждаться. Вкусы разные. А книга, как известно, это пища для ума.
23.04.2013Еще в 2009 году, электронный литературный журнал «The Millions» начал свою серию "трудные книги" – раздел, в котором выявляют самые трудные и самые неприятные для прочтения книги, когда-либо написанные. Рассматриваются также элементы стиля писателя, которые делают прочтение его творений трудным и сложным процессом.
Два куратора литературного журнала, Эмили Колетт Уилкинсон и Гарт Риск Холберг, выбрали самые трудные из самых трудных, десять литературных произведений, которые являются настоящими Эверестами, восхождение на которые потребует от вас изрядной доли смелости и упорства. Хотя, возможно, некоторые из них вам уже покорились.
Валлийский поет Дилан Томас называл «Найтвуд» "одной из трех величайших прозаических книг, когда-либо написанных женщиной", но для того, чтобы узреть это величие, вы должны овладеть извилистым, готическим стилем прозы Барнс.
В своем предисловии к роману литературный критик, Томас Стернс Эллиот, писал, что «это в целом живая проза», но «она требует от читателя нечто, чего обыкновенный читатель романов не готов дать». «Найтвуд» - это роман идей, свободное собрание монологов и описаний.

Первая трудность: изобилие ссылок (более ста) на устаревшие культурные явления и понятия (некоторые неясные уже даже в Англии восемнадцатого века), а также персона рассказчика: обедневший сифилитический сумасшедший, который безжалостно режет на кусочки свою рукопись и своих сограждан.
Его компульсивное отклонение намеренно непонятно, но более непонятной является его сатира, направленная на "злоупотребления и упадок в системе образования и религии". Общее впечатление: книга написана консервативным англиканским священником, который не находит ничего святого в своем окружении.

Вам нравится хорошее интеллектуальное чтиво? Если это так, то Гегель ваш человек, а эта книга, классика немецкого идеализма и, несомненно, одно из самых значительных произведений современной философии, является прекрасным поводом для начала.
Опровержение Гегелем кантовского идеализма, история сознания, и квинтэссенция объяснения процесса диалектики слишком тяжелы для понимания и еще тяжелее для запоминания, главным образом из-за широкого охвата понятий и терминологии. Смысл книги фактически непостижим без хороших пояснений редактора и подручных справочников.
4. Вирджиния Вульф «На маяк»

Благодаря фирменному литературному приему - смешении отдельных сознаний героев, художественная проза Вирджинии Вулф является интеллектуально и психически трудной.
Мало того, что порой трудно сказать, кто есть кто: кто говорит или думает - в замешательство вводит, даже вызывает тошноту, нахождение в чужом сознании, с его собственными ритмами и ассоциативными моделями. Порой кажется, что вас захватило чужеродное сознание.
Хитрость заключается в том, чтобы сдаться (это работает с другими модернистами "высокого полета"), чтобы позволить тексту пройти через вас и отнести туда, куда вздумается, не заботясь слишком о догматичном понимании происходящего.
5. Сэмюэль Ричардсон «Кларисса, или история молодой леди»

« Кларисса…» Ричардсона является тяжеловесом не только в физическом смысле. Физический вес романа является частью его сложности, тем более, что все 1500 страниц небогаты событиями.
Но бедность сюжета с лихвой восполняется психологической глубиной истории. Ричардсон стал первым мастером психологического романа, и его никто не превзошел с тех пор.
Эти глубины весьма темны и психически мучительны: отказ Клариссы и дегуманизация ее чудовищной семьи, садистские муки, которым она подвергается в руках ее спасителя, который оказался мучителем - "очаровательный социопат" Роберт Лавлейс.

«Поминки по Финнегану» длинная, плотная и лингвистически узловатая книга, которая вас щедро вознаградит, если вы научитесь ее читать. Под учением вовсе не имеется ввиду, что вы должны цепляться за научные толкования текста. Нужно просто отдаться словесной музыке Джойса.
Смысл текста здесь больше зависит от произведенного эффекта на читателя, чем от декодирования. Попробуйте читать 25 страниц в день, вслух, с плохим ирландским акцентом. Возможно, вскоре вас охватит легкое безумие - и вы на несколько дней-недель переместитесь в мир Ирландии Джойса.

Литературный смысл и философский смысл – несколько разные категории, причем последний не обязан быть приукрашенным и сказочным. Философский текст стремиться стать новой наукой, фундаментом, на котором строятся научные знания.
Хайдеггер говорит о многих вещах с шокирующей правотой, тем не менее, абстрактность и сухость его книги препятствуют легкому пониманию ее тайн и секретов. Необходимо время чтобы надлежащим образом все осмыслить.

Трудность и удовольствие от чтения шедевра Спенсера возникают из общего источника: его семиотической распущенности. Королева фей является аллегорией силы самой аллегории.
Эта аллегория «осушает ум, как сладкие вина, разодетая в слои одежд, заставляет бежать сквозь пение Эдемского сада…» В книге полно подобных сумасшедших образов, но это не вершина коварного плана Спенсера (Как и Хайдеггер, он закончил только половину своего опуса).
«Королева фей» - тщательно поэтически сложена: сотни и сотни идеально составленных строф. Сюжет романа быстро забывается, а вот поэтические образы не стираются из памяти годами.