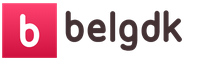Мень екатерина евгеньевна история ее сына. Школа пустословия. Но разве это не нарушит право их детей на образование
Известные представители мировой науки и медицины 18-20 апреля соберутся в мультимедийном пресс-центре РИА Новости на I Московскую международную конференцию "Аутизм: вызовы и решения". Насколько распространены расстройства аутистического спектра (РАС) в России? Нуждаются ли отечественные специалисты по аутизму в обмене опытом с зарубежными коллегами? На эти и другие вопросы корреспонденту РИА Новости Анне Курской ответила эксперт фонда "Выход", президент АНО "Центр проблем аутизма" и член оргкомитета конференции Екатерина Мень.
— Екатерина Евгеньевна, насколько аутизм сегодня распространен в России?
— Достоверной статистики нет. Мы полагаем, что аутизмом страдает один человек из сотни, то есть около 1% детей до 18 лет. А если речь идет обо всем спектре аутистических расстройств - то не менее 1,5%. При этом мы ориентируемся на статистику, которая достаточно тщательно ведется во многих зарубежных странах. Мы исходим из того, что этот диагноз не имеет никаких ограничений: ни территориальных, ни социальных, ни этнических.
— Достаточно ли проблемы больных аутизмом, на ваш взгляд, освещаются в отечественной прессе и обсуждаются в медицинском сообществе?
— Недостаточно. В России проблема аутизма до сих пор остается в ведении психиатрии, и даже не столько медицины, сколько психиатрического сервиса. А он, как и вся наша медицина, находится не в лучшем состоянии. Кроме того, отечественная психиатрия — это прочная самозащищающаяся система, бесконечно воспроизводящая советские образцы. Говорить о научном развитии внутри нее пока не приходится. И пока ученые не забрали оттуда исследования аутизма, никакого научного прогресса не будет.
— А куда его следовало бы, на ваш взгляд, забрать?
— Его надо забрать в неврологию, нейрогенетику и нейроиммунологию, как это произошло в других странах. Аутизм уже давным-давно имеет другую дисциплинарную прописку во всем мире. Когда его оттуда вытащили, произошел сильный прорыв в исследованиях, в понимании аутизма. В России есть отдельные ученые, которые занимаются аутизмом в струе мирового научного тренда, но это не системное явление.
— По-видимому, бессмысленно задавать вопрос о том, насколько актуально использование в России мирового опыта…
— Да, в том-то и дело. Вообще, наука - это экстерриториальная вещь, у нее нет границ. Другое дело, что есть границы у финансирования, у заказа. Например, в США в исследования аутизма вкладываются огромные средства. Конечно, там происходит научный прорыв. Не потому, что американские ученые чем-то лучше наших (тем более, если хорошо копнуть "американского ученого", легко может обнаружиться, что американское светило, например, из Новосибирска или Твери). В этом главная прелесть науки - у нее нет гражданства или национальности.
Но при этом главная наша проблема, имеющая вполне локальный флер, состоит в том, что профессиональное сообщество на уровне практиков, а не ученых, не хочет принимать те очевидно эффективные клинические и коррекционные результаты, которые, собственно, и опираются на данные, полученные в рамках научных исследований. Наши практики продолжают оперировать методиками, выросшими, в лучшем случае, из Выготского и Лурии, а в худшем - из академика Снежневского. И это довольно удобно, потому что привычно.
Практики никак не могут обнаружить связи между данными об особенностях синаптического прунинга у аутистов и их, практиков, коррекционными стратегиями. Практики не видят связи между аутоиммунитетом и конкретным клиническим вмешательством. Возможно, такая связь и не может быть сразу очевидна. Вот для этого, собственно, и инициируется конференция - эти связи раскрыть.
Вопросов в аутизме до сих пор больше, чем ответов, но это не значит, что ответов нет вовсе. И найденные на сегодня ответы определенно выводят аутизм из разряда психозов, и уж точно исключают возможность "воспитания аминазином".
— Насколько я понимаю, в предстоящей конференции будут принимать участие врачи с мировым именем, добившиеся уникальных успехов в лечении аутизма. Кто именно к нам приедет?
— Не только в лечении, конечно, но и в объяснении аутизма, а это тоже залог успеха: ведь терапия без понимания - это шаманство с бубном. В конференции будут принимать участие ученые из разных стран. Естественно, там будут и российские ученые, связанные с этой темой. Приедет довольно большая делегация американских специалистов, ученые из Италии, Великобритании, даже из Саудовской Аравии, где исследования аутизма достаточно хорошо в последнее время финансируются.
В конференции будут участвовать представители прикладных и фундаментальных областей науки. Будут выступать ученые, которые занимаются исследованиями в области биохимии и биомедицины аутизма, которые изучают отдельные гены или белки, процессы в иммунной системе и так далее. Их результаты позволяют всем людям, которые считают, что аутисты - это сумасшедшие, возразить, что это не так, у них особое клеточное устройство.
Второй тематический блок конференции будет посвящен самым актуальным методам коррекции аутизма, здесь выступят несколько мастеров поведенческой терапии и теоретиков поведенческого анализа.
Методики коррекции аутизма: от научных до нетрадиционных Методики коррекции аутизма направлены на снижение аномальных особенностей, связанных с аутизмом, а также для повышения качества жизни людей, страдающих аутизмом, и особенно детей.Кроме этого в конференции примут участие специалисты в области фундаментальной и прикладной неврологии, изучающие нарушения в развитии сенсорных систем. Ведь аутизм связан с нарушениями сенсорной интеграции, сбоями в обработке сенсорной информации. Ученые-практики покажут нашим специалистам, как с этим работать. Также приедут клиницисты, которые участвуют в исследованиях, но при этом имеют большой клинический опыт. Большой мастер-класс для врачей проведет ученый и врач Синди Шнайдер.
К нам приедет прочитать лекцию Робер Навье, руководитель научной группы из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который недавно опубликовал в журнале Nature результаты "мышиного этапа" исследований по использованию одного препарата в лечении аутичных пациентов. Это открытие лежит в русле теории связи аутизма с митохондриальными нарушениями, оно обещает хорошие биомедицинские перспективы.
Нам удалось собрать на конференцию самые "сливки" научного и клинического мира. Эти люди понимают, что в России сегодня сложилась непростая ситуация. Я с удивлением узнала, что научный мир вообще очень любит Россию.
— Кому адресована предстоящая конференция?
— Мы сами, организаторы, для себя ее адресность определяем с трудом. По большому счету, конференция может быть интересна родителям, которые интересуются передовыми исследованиями, контактами и консультациями, поскольку она будет насыщена разными мероприятиями, программами и тренингами. Конференция - это всегда очень демократичное пространство, тем более что она пройдет в таком прекрасном и удобном для свободной коммуникации месте, как РИА Новости. Там будут работать волонтеры и переводчики, родители смогут задать свои наболевшие вопросы лучшим врачам мира.
Но в первую очередь конференция все-таки адресована специалистам. Мы ориентируемся на ученых-нейробиологов и врачей, неврологов и педиатров, а также врачей любых других профилей, которые в своей практике сталкиваются с аутистами, и не знают, что с ними делать. Если у врача любой специализации существует запрос на получение очень квалифицированного и качественного ответа на свой вопрос, он может туда прийти.
Мне бы очень хотелось, чтобы на конференцию пришли и психиатры, но мне почему-то кажется, что не стоит надеяться на большой поток слушателей из этой области. Хотя я бы хотела ошибиться в своих ожиданиях.
— Как вы считаете, может ли одна конференция изменить ситуацию с лечением и отношением к аутизму в России?
— Думаю, не может. Но с чего-то надо начинать. Я надеюсь, что эта конференция станет ежегодной. И уже сегодня можно отметить к ней невероятный интерес, особенно с учетом наших очень ограниченных средств и возможностей. У нас есть многое, о чем нужно рассказать российской профессиональной среде.
А также информация об участии в конференции, размещена на официальном сайте конференции и на сайте фонда "Выход".
Материал подготовлен в партнерстве с информационным проектом фонда "Выход" "Аутизм: диагноз, который появился вчера".
Медицина и общество Интервью с экспертом
Екатерина Мень: «Инклюзия при аутизме позволяет повысить качество жизни»
2014-03-31В последние годы тема аутизма широко освещается в СМИ и становится все более популярной в обществе: о нем не только говорят и пишут, но уже снимают кино. При этом многие люди с аутизмом по-прежнему не получают необходимого им внимания и лечения, а само это состояние остается загадкой . О проблемах коррекции аутизма, его статусе в обществе и в медицинском мире, о роли государства и общественных организаций в создании дружественной аутистам среды МЕД-инфо рассказывает общественный деятель, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, президент АНО «Центр проблем аутизма» Екатерина Мень .
— Как вы пришли к тому, чтобы заниматься темой аутизма ?
— У меня с аутизмом своя довольно мистическая история. Еще «в прошлой жизни», занимаясь разными культурными вопросами по основной профессии — журналистике и издательскому делу, я несколько раз странным образом соприкасалась с этой темой. Однажды в конце 1990-х мне заказали архитектурную статью о здании школы для аутистов, а в другой раз мне нужно было делать анонс на канале «Культура» британского документального фильма об аутизме. А в 2004 году у меня родился младший сын, и примерно через 2 года выяснилось, что он аутист. Причем именно благодаря тому, что я уже знала, что это такое, я довольно рано увидела у него некие признаки и пошла с ним к врачу. Так что для меня осознание было не самым страшным моментом. Казалось бы, что может быть страшнее, чем получить диагноз «аутизм» для своего ребенка? Это шок для любого родителя любой страны мира и социальной принадлежности. Но оказалось, что есть вещи и пострашнее: получить диагноз и вместе с ним полную невозможность получить помощь. Когда тебе никто не может помочь, ты остаешься абсолютно один и не представляешь, что делать сейчас, у тебя нет никакой последовательности дальнейших действий.
Я считаю, что сейчас, когда уже сложилось понимание того, что это такое, должны быть вполне конкретные действия, и то, что люди остаются со своим диагнозом, как в пустыне, это преступление. Когда человек получает для своего ребенка диагноз «аутизм», он фактически обретает другую жизнь : открываются абсолютно другие миры, такие, которых раньше невозможно было себе представить, и человек должен это принять. Принятие состоит из очень тяжелых этапов, которые нужно пройти, чтобы в конце концов вернуться к нормальной жизни. Чаще всего человек переживает этот процесс абсолютно один, без каких бы то ни было проводников, и, если все же находится специалист, который готов оказать грамотную поддержку, это большое везение.
— Эта ситуация как-то меняется?
—
Конечно, ситуация очень сильно изменилась и продолжает меняться. Она по-прежнему очень тяжела и даже трагична, но все же она меняется. В первую очередь за счет трансформации информационного освещения этой темы. У меня есть показательный пример. В 2009 году перед Всемирным днем информирования об аутизме я обратилась на популярную радиостанцию. Я думала, что в такой день социальное радио, где развита тематика детского образования, заинтересуются этой темой. Но мне ответили, что это какая-то непонятная, маргинальная болезнь и вообще неформат.
Я рассказываю об этом без обиды, радио не виновато, это показатель низкой информированности: такой отрицательный статус был у аутизма еще в 2009 году. Но тогда это показалось мне невероятно несправедливым — либо считалось, что это какая-то заморская болезнь, либо, что это болезнь очень редкая. Во многом это наследие советских времен: как не было в СССР секса, так не было и аутизма. Конечно, ситуация меняется в лучшую сторону, но это пока замена трагедии на драму.
— Как аутизм лечили в советские времена?
— Существует большая группа людей, которые воспитывают детей с аутизмом старше 25 лет. Если они не демонстрировали слишком неадекватного поведения, не теряли речи, имели достаточно развитый интеллект, их вытаскивали. Низкофункциональных, невербальных аутистов с серьезными сенсорными нарушениями и радикальным поведением (истеричным, дезадаптивным) отправляли в психиатрические клиники и просто раскладывали по существующим диагностическим «полкам», весьма узким, лечили, как лечат психические заболевания, некоторые проходили с диагнозом «шизофрения» . В 1990-е годы повезло тем, чьи родители уехали за границу, там они попадали в среду, где был уже какой-то неплохой сервис. Несмотря на это психиатрия и там никогда не уходила из этой области, но в западных странах она была и остается другой. Советская психиатрия — это вообще отдельная история. Она, в основном, сводилась (и сводится в наши дни) к психофармакологии, непосредственной работы с личностью очень мало. За рубежом, как правило, вмешательство заканчивают теми, довольно тяжелыми и рискованными, методами, с которых у нас начинают. Так что аутисты советского периода — это сонм несчастных, разрушенных судеб, куча искалеченных душ, причем не только в лице этих аутистов, но и в лице их родителей.
—Как аутизм исследуется сегодня?
— В последние примерно 5 лет (если брать биологическую сторону вопроса) сформировался новый тренд изучения аутизма, вокруг которого консолидируется научное сообщество . Это связано с общим всплеском развития нейронаук и знаний о мозге. Конечно, преимущественно работа ведется за рубежом, в частности в США, мы пока на эту волну не попали. Еще это Израиль, отчасти арабский мир (благополучная его часть) и некоторые страны Азии — там много средств вкладывается в эти исследования. Хотя в принципе у научного знания нет национальности или гражданства, у него может быть только своеобразная институциональная «прописка». Аутизм — это, по сути, целый космос. Этой темой может заниматься почти любой ученый практически любой дисциплины: психолог, молекулярный биолог, микробиолог, диетолог , генетик и даже математик и ай-ти-ученый (в части создания эпидемиологических моделей). Аутизмом занимаются и психолингвисты с позиции языка и коммуникации, теории построения социальных отношений, и социологи, и экономисты (существует хорошая аналитика по экономическим аспектам разных моделей медицинской и педагогической поддержки).
— А что происходит в общественной среде?
—Разумеется, очень развита сеть общественных и некоммерческих организаций . Их очень много, они разные, какие-то стоят на более экспериментальных позициях, какие-то тяготеют к полюсу официальной доказательности. Кто-то более занят исследовательской сферой, кто-то — правозащитной, кто-то специализируется на просвещении и работе с информацией. Кто-то просто занят «классической» благотворительностью , то есть материальной помощью семьям, где растут и живут аутисты. Эта сфера никогда не опустеет, так как воспитание человека с аутизмом — одно из самых дорогих «удовольствий». То есть некоммерческий «аутистический» сектор за рубежом — это огромное и очень разнообразное поле. Занимаясь аутизмом здесь, я часто слышу какие-то наивные призывы к тому, что «все должны объединиться». Предполагается, что все организации должны слиться в какую-то монополию, и от этого борьба за права и сервис станет эффективней. Это очень неискушенное представление. Нигде в мире, где проблема решается на очень достойном уровне , нет никаких единств и монополий. Напротив, опыт показывает, что разнообразие форм некоммерческого участия в проблеме повышает эффективность и скорость решения проблемы. При большом количестве разных организаций происходит больше разных проб в поисках системных решений. Когда же в каком-то вопросе достигается наиболее оптимальное решение, то уже под эгидой этого достижения происходит объединение для совместного продвижения и внедрения данного решения. Потом участники опять расходятся по своим полянам для новых поисков и проб. Так в прицие устроена любая развитая благотоврительность, и аутизм не исключение.
— Какова общая ситуация по аутизму в России сейчас?
— Россия в этом плане пока отстает, и это наша головная боль. В некотором смысле тем, кто занимается аутизмом, нужно внимание Минздрава, Минобра и других министерств, например, социального развития, потому что без государственного вмешательства эта проблема не решается. С другой стороны, в России еще не сложилась традиция взаимодействия государственных ведомств с общественными организациями. Без общественных, главным образом, родительских организаций ситуацию не изменить. Они — инсайдеры этого процесса, которые ведут за собой экспертную позицию или складывают вокруг себя некое экспертное сообщество. Через которое и должно происходить влияние уже на госструктуры.
— Расскажите о деятельности Центра проблем аутизма.
— Одно из ключевых направлений нашей деятельности — это то, что в современных информационных теориях называется content curation. Это термин из области информации. Грубо говоря, в ситуации перепроизводства информации необходима выработка критериев, по которым возможно находить наиболее достоверную и полезную информацию. Аутизм стимулирует невероятное количество исследований, производит неисчислимое количество данных, гипотез, мнений (вполне научных, но часто временных, опровергаемых в скором времени) — они могут выглядеть по-разному и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания, и необходимо понять, какое из знаний наиболее полезно и достоверно.
Есть еще одна сторона вопроса. Например, ученый получает грант и делает содержательное исследования. Для того чтобы на определенном этапе его продолжить, необходимо снова получить грант. Не в последнюю очередь для того, чтобы получать гранты, нужно быть на слуху и заявлять о своей работе, то есть находиться в информационном пространстве. Чтобы в него попасть, нужно, чтобы об этом написали. А тут уже включаются законы медиа — любое исследование, даже мелкое или такое, которое в чем-то повторяет уже существующие, попадая в СМИ, приобретает характер сенсации. Мы должны понимать, что действительно является новым знанием, влияющим на дальнейший исследовательский и клинический путь, а что — нет. Во всем этом надо хорошо ориентироваться.
ЦПА занимается как раз выработкой таких критериев, по которым можно судить о значимости и новизне исследования. Мы хорошо ориентируемся в источниках, вокруг ЦПА консолидированы эксперты (причем, тоже отобранные в результате длительной аналитической селекции), которые могут объективно судить о ценности того или иного исследования. Таким образом, наша организация приобретает и продюсерскую функцию. Тип деятельности аналогичен тому же или Autism Speaks по вектору действия, но, конечно, не по мощи. Мы стремимся быть инициаторами заказа на то или иное направление деятельности, которое могут осуществлять и государственные организации, и научно-исследовательские центры, и отдельные ученые или врачи. Именно в рамках такой деятельности государство должно взаимодействовать с общественными инициативами , без их объединения ничего невозможно сделать. Сейчас у людей, которые получают диагноз «аутизм», на самом деле, шансов на излечение 50 на 50: либо их превратят в глубоких инвалидов, либо, в случае, если родители найдут специалистов, с которыми построят системную профессиональную помощь, они будут расти дееспособными (пусть и частично) и образованными.
— То есть Центр проблем аутизма стремится задавать некий вектор работы с темой?
—
В общем, да. Но важно еще то, что ЦПА возник уже в результате какой-то деятельности, в контексте разрозненных инициатив. Первые диски с материалами американских научных конференций я заказала в 2007 году, и начала погружение исключительно для собственного пользования, чтобы попытаться найти способы помочь своему мальчику. А юридически ЦПА возник в 2010-м году. Как закрепитель того процесса, который сам собой зародился из полного отчаяния. Возникли какие-то стихийные энергии сопротивления системе, какие-то родительские проекты, интернет-сообщества, аутист «попер» из самых ближайших щелей, — этой лавине просто необходимо было приделать голову, руки, ноги. Это дало возможность не кидаться заполошно на каждую прореху, которую, конечно, и сегодня хочется заткнуть побыстрее, но все же досчитать до десяти и поставить задачу системной работы, по сути, общероссийской реформы в этой области. И если говорить прямо, то у ЦПА и сегодня такие амбиции: с помощью мультидисциплинарного международного экспертного сообщества формировать концепцию желаемой модели помощи людям с аутизмом и с квалифицированным менеджерским видением подходить к реализации этой модели. Для этого вырабатывается стратегия, выделяются «этапы большого пути» и определяются проекты, которые имеют стратегическое значение. То есть, с одной стороны, ЦПА старается работать как системный интегратор на поле разноформатных активностей (разумеется, с помощью партнеров), с другой стороны, он уже концептуально и медийно поддерживает целый ряд реальных проектов, в которых уже поддерживаются конкретные дети и их семьи. Из самых насущных задач Центра проблем аутизма можно выделить следующие: 1) создание условий для статической работы — пока аутистов не начнут на государственном уровне правильно считать, планировать лечебную, коррекционную и законодательную работу невозможно; 2) утверждение диагноза «аутизм» для всех возрастных категорий (не с 3 до 18 лет, а с 0 (при должной диагностике) и пожизненно, если человек этот диагноз не снимает вовсе. Сегодня 20-летний аутист почему-то только в России называется шизофреником; 3) радикальное изменение в системе детской психиатрической помощи (при аутизме, по мнению мирового экспертного сообщества, психиатрическая помощь не должна быть первостепенной, а должна быть вспомогательной); 4) создание условий для подготовки и переподготовки специальных кадров — сегодня специалистов именно по аутизму нигде в России не готовят; 5) работа с обществом — большая информационно-пропагандисткая работа как с обывателем, так и с властью.
— Как
проходит
процесс объединения общественных и государственных усилий?
—
Пока трудно это оценивать. В России до сих пор нет единой стратегии действия, поэтому нужно сформировать систему, в рамках которой проблема станет решаемой. Когда я начинала общественную деятельность, была иллюзия, что сейчас мы с единомышленниками придем с добрыми намерениями, свежими идеями к людям, которые призваны, поставлены для того, чтобы помогать детям с аутизмом, и будем просто делиться с ними знаниями и идеями, и они нас примут. Еще до создания ЦПА я искала и собирала все возможные материалы по аутизму, изучала их и удивлялась тому, почему в Россию это знание до сих пор не проникло, и для меня это остается загадкой и сейчас. Первое же разочарование показало всю наивность моего мнения: этот мир уже устроен и организован, внутри него существует своя система, своя матрица, довольно устойчивая и устоявшаяся, все к ней привыкли и не хотят ничего менять.
После разочарований мы решили, что не будем никого трогать, а будем искать союзников. Тогда я уже довольно хорошо знала о методах ABA-терапии и о поведенческих науках. Кроме того, я решила, что моему сыну нужна эта терапия , и что я привезу из-за рубежа несколько специалистов, и мы сделаем образовательные программы для специалистов, никого не трогая и не обижая. Со временем эти планы реализовались, но на тот момент отношение к этой терапии, ко всем бихевиористским подходам в целом было резко отрицательное. Это удивительно, потому что и бихевиоризм, (да, кстати, и психоанализ, тоже притесненный затем марксизмом-ленинизмом) выросли из русской мысли — никакой бихевиоризм не сложился бы без «рефлексов Павлова».
Вообще, в призме аутизма отражается весь трагизм научной биографии советского периода: мы вылетели отовсюду, будучи, по большому, счету родоначальниками многих направлений, которые за рубежом развивались, а у нас нет. Наука не может развиваться в рамках какой-то идеологии, такого не бывает. Все, что случилось, в частности, с психиатрией 60-70 лет назад, или случилось с генетикой, или кибернетикой, сейчас отражается на наших детях — это исторический контекст. В результате они попадают в жернова диагностической догмы, и врачам нужно обладать большой духовной «мускулатурой» чтобы знать, как из этого вырваться. Кроме того, они попадают и в жернова российской истории. Мы нашей деятельностью, конечно, хотим разорвать эти порочные круги. Ну, если не разорвать, то хотя бы «понадкусывать».
— Вернемся все же к теме консолидации общественных и государственных усилий.
—
Да, когда мы решили делать что-то параллельно, без взаимодействия с государством, мы через какое-то время поняли, что это тоже иллюзия. Нужно строить партнерство, опираясь на кого-то и в тематической, и в государственной среде. Вполне эффективно можно взаимодействовать с врачами, работающими в государственных клиниках, но не догматичными и не коррумпированными. Мы хотим работать со специалистами, которые находятся вне этой темы непосредственно и при этом открыты, найти и собрать таких врачей, которые разбираются в вопросе. Это очень сложная коммуникативная задача, она одна из главных, которые ставит перед собой ЦПА.
— Расскажите о других направлениях работы Центра.
— Во-первых, это образовательные программы по ABA-терапии и ряду смежных областей — альтернативной коммуникации, тьюторству, организации поведенческой терапии внутри семьи. Как я уже говорила, АВА — это самый признанный и действенный метод, опирающийся на критерии доказательной медицины, без которого невозможно представить терапию аутизма. Аутисты «выключены» из социального контекста чаще всего из-за сенсорных нарушений. Кроме того, родители, сами того не замечая, еще больше выводят ребенка из этого контекста. Сначала выбирают детские площадки, где поменьше людей, потом специальные группы в детском саду, где к поведению ребенка будут относиться лояльно или равнодушно. В результате происходит некая аутизация всей семьи, и чем дольше это продолжается, тем больше вред для ребенка. Все эти «провалы» нужно лечить только естественной социальной средой, естественную среду невозможно синтезировать или искусственно смоделировать: жизнь непредсказуема, ее подлинное течение невозможно сконструировать.
Соответственно, получается порочный круг: для человека, не предназначенного для социального взаимодействия, самым важным лечением является именно социализация. Вы можете обучить его готовить себе еду, убираться в комнате, то есть делать что-то в домашних условиях, но эта среда все равно ограничена. Мир существует за пределами личной кухни и убранной комнаты. Значит, надо менять реальность: сначала нужен детский сад, потом школа, то есть социальные институты, в которых ребенок принимался бы таким, какой он есть, был бы востребован и получал бы необходимую ему помощь. Поэтому встает вопрос об инклюзии как о философии: не просто мероприятие, праздник, куда ребенка привезли и увезли, а модель социального устройства, которая организуется сначала в детском саду, потом в школе, а следом уже и в магазине, и в театре, и трамвае.
— У вас есть свой опыт работы в этом направлении?
—
Сейчас мы работаем над проектом инклюзивной школы для детей с разными формами аутизма, включая глубокую (этих детей не ждут нигде). Есть свои сложности, пока мы делаем многое на благотворительные деньги, без значительного участия государственного капитала. Наш главный финансовый партнер — благотворительный фонд «Галчонок». Без такого понимания трудно было заниматься экспериментальным социальным проектированием. А инкюзивная модель, которую мы строим — эксперимент и инновация. Метод, на котором строится общение и обучение — ABA. Мы специально готовили специалистов, искали подходящую модель, и остановились на том типе, который используют в США (это не значит, что его принимают здесь с распростертыми объятиями). Одновременно с этим мы строим партнерство с Департаментом образования: многим специалистам государственной системы образования нравится эта история, но при этом Минобр является носителем традиционных установок отечественного школьного образования. Опять же, для эффективного взаимодействия нужно координировать общественные и государственные усилия, тут нужны управленческие решения, одним гуманизмом не обойдешься. Уже открылся инклюзивный класс на базе ГБОУ ЦО № 1465 имени адмирала Н. Г. Кузнецова — самой обычной московской школы, обучение там для школьников бесплатное.
—Расскажите о работе этого класса.
—
Мы подготовили среду, специалистов для работы с родителями как нейротипичных детей, так и аутистов. Все педагоги ресурсного класса (системы поддерживающего сопровождения учеников с аутизмом) имеют, как минимум, базовое образование по ABA, при этом каждый ребенок инклюзируется настолько, насколько это нужно именно ему. Нейротипичные дети при этом не страдают: каждый занимается своим делом, а дети-аутисты в этой среде меняются феноменально. Они как раз учатся оценивать подлинную, а не «коррекционную» реальность. Потолкаться на переменке и заметить бегущего на тебя одноклассника, увернуться от него — это и есть лечение. Многократный опыт в естественных ситуациях и малых социальных задачах, с которыми они учатся справляться, а не таблетки. В идеале мы хотим, чтобы в каждой третьей школе был такой класс.
— Где обчаются специалисты для работы в таком классе?
—
Мы работаем с разными вузами. Первое обучение делали совместно с Институтом психологии Л. С. Выготского РГГУ. По направлению тьюторства сотрудничаем с МГПУ и Ассоциацией тьюторов. В области подготовки поведенческих специалистов мы работаем с Московским институтом психоанализа, он имеет право давать международное сертифицированное образование по этой специальности.
Кроме того, мы выступили инициаторами проведения международной научно-практической конференции, в этом году в апреле пройдет уже вторая. Она называется «Аутизм: вызовы и решения». Конечно, до этого мероприятия отдельные медицинские конференции по аутизму существовали, но они проводились исключительно, опять же, в узком психиатрическом поле. Наша идея — прорвать некоторые дисциплинарные границы. В частности нас интересуют тенденции в нейронауках «вообще», в биомедицине, в нейрогенетике, эпидемиологии. Повторюсь, наша глобальна задача — это привлечение очень разных по дисциплинарной принадлежности, но очень заинтересованных специалистов для работы в этой области. На самом деле, таких специалистов много, среди них есть те, кто помогает нашей интеграции с государственными структурами, помогает сделать коммуникацию содержательной. К слову, есть большое количество данных, которые говорят о том, что своевременное вмешательство экономит деньги в масштабах страны.
— А что же с теми, кто уже вырос или подрос?
—
Дети растут очень быстро, и эта тема острейшая. Сейчас в России начали происходить очень ценные процессы в области взрослого аутизма. Конечно, рано говорить о системной помощи людям с аутизмом после 18 лет. По-прежнему в официальных реестрах таких людей в России пока не существует. И все-таки полная и абсолютная блокада прорвана. Появились первые образцы внебюджетных центров для молодых людей с аутизмом, очень интересный опыт предпринимает команда режиссера и киноведа Любови Аркус в негосударственном центре «Антон тут рядом», первые пробы трудоустройства этих людей, первые судебные процессы, мучительные, но все же результативные, благодаря которым они восстанавливают свои права. Главное, что произошло — эта проблема обозначена, она перестала быть уделом только самых близких членов семьи взрослого аутиста.
Проблема взросления ребенка с аутизмом — это отдельная, тщательно изучаемая на Западе тема. Надо понимать, что, несмотря на официально уже подтвержденные данные о том, что аутизм (некоторые его фенотипы) уже нельзя относить к разряду неизлечимых, все же это так или иначе пожизненное состояние. Но речь не идет о том, что все поголовно должны быть здоровы, эта установка в корне неправильная. Речь идет о том, что все должны быть максимально благополучны, мы в первую очередь говорим о качестве жизни. Если человек достаточно качественно живет с болезнью, то Бог с ней с этой болезнью. Например, я часто вижу детей с ДЦП , которых измучивают, чтобы поставить на ноги, лишают детства, они проводят громадное количество времени в медицинских учреждениях, в нескончаемой госпитализации, в изоляции. Зачем? Пусть он будет ездить на коляске, но пусть у него будет детство. Создайте среду, в которой человек на этой коляске имеет тот же уровень доступности нормальной жизни, что и человек, которых ходит. Но среда настолько агрессивна, что все силы вкладываются в то, чтобы к ней приспособиться, чтобы человек худо- бедно, страшно, мучительно и больно, но встал на ноги. Чтобы всеми правдами и неправдами он стал «нормальным».
Но именно поэтому мы и боремся за инклюзию — она позволяет повышать жизнеспособность в любом состоянии. Мы знаем, что если ребенок с 1-го класса учится в инклюзивной школе, даже если он к 18 годам останется «странным» или неходячим, его не будут изгонять и издевательски выделять.
— Вы представляете тему аутизма в Общественном совете при Министерстве здравоохранения. Как вы себе представляете свою функцию?
— Совет только сформировался, я пока не понимаю, как он будет работать, и какова моя функция. Мне известен состав Совета, со многими я знакома лично, я доверяю этим специалистам, и то, что они в него вошли, обнадеживает. Надеюсь, что работа будет эффективна. Со своей стороны я могу предложить стратегии, следуя которым можно что-то изменить. Мы не ждем от государства, что оно найдет пути решения проблемы аутизма, оно не может решить эту проблему, это не его функция. Я уже говорила о том, что, имея ребенка с аутизмом, рано или поздно приходится менять реальность, и сама реальность меняется. Так вот, находясь в этом процессе, человек со временем упирается в какой-либо барьер: административный, законодательный, и так далее. Функция государства в данном случае заключается в том, чтобы в согласованном договорном режиме эти барьеры снимать. Я, как мать аутичного ребенка, не могу требовать от государства, чтобы оно создало такую модель, которую создаем мы в рамках работы ЦПА. Но оно может решить проблемы, которые возникают у нас при реализации этой модели. Не хватает какой-то статьи в законе, а другая статья, наоборот, мешает, по другому вопросу неэффективен механизм финансирования, а мы может предложить «свой» механизм, и государство может его принять и регламентировать, и так далее.
Я считаю, что неверно говорить, что государство плохое, оно не может быть плохим или хорошим. Любое государство — просто инструмент с той или иной тонкостью заточки. А если при решении конкретных задач выходить за пределы политики, можно что-то решать . Даже в полном абсурде можно найти логику и поставить его на службу делу. Это по работе с аутистами мне уж точно хорошо известно.
— Дает ли свои плоды широкое освещении темы аутизма в СМИ, которое имеет место в последние год-два?
— Да, безусловно. Это проявляется уже на бытовом уровне. Многие родители признаются, что несколько лет назад на той же площадке невозможно было сказать, почему ребенок ведет себя неадекватно. Нельзя было просто сказать: «Он аутист», об этом гораздо меньше знали, и это считалось обидным. Сейчас таких проблем меньше, хотя неискушенная публика будет всегда. Но именно «искушение» этой публики и повышает качество жизни. Мир для аутичных людей стал более открытым. В эту тему вовлекаются известные люди , это очень хорошо и важно, важно и поддержание медийного внимания, без него никуда. Про аутизм все еще сложно писать, проскакивает много глупостей, но их гораздо меньше, чем раньше. Все больше содержательных интересных материалов, количество переходит в качество. На тему появился общественный запрос, прорвалась информационная блокада.
Это ситуация состоит из всех известных видов стресса. Профессиональные психологи говорят, что для родителя это переживание равноценно смерти ребенка, потому что гибнет стандартная программа прогнозированного будущего, которая «закладывается» при рождении ребенка. Она рождается вместе с ребенком, они неразделимы, это естественные ожидания, и они рушатся. Но поскольку физической смерти не происходит, нужно каким-то образом восстанавливаться и строить жизнь заново. Нужно переродиться в качественно новое существо. Человек как бы распадается на атомы, и из этих атомов нужно создать новое вещество. Это сложный и многоэтапный процесс. Есть люди, которые долго задерживаются на этапе «распада», находясь на котором ничего невозможно сделать. В этом состоянии человек - это просто груда «сырья», какого-то материала, который не «пересобирается» ни во что новое, и это проблема.
Поэтому помощь должна оказываться не только детям, но и родителям, чтобы перевести их в деятельное начало. При этом проскочить какой-то этап невозможно, это своеобразная эволюция принятия, через которую проходят все. Даже когда человек переходит в деятельный режим и принимает диагноз, он «перепрограммирует» свои цели, меняет социальную роль - это тоже сопряжено со стрессом. Смена социальных ролей вообще тяжелый процесс. Сложнее всего пережить изменения, которые происходят внутри семьи, над этим нужно работать. Семья в этот момент должна превратиться в терапевтическую команду, стать менеджером информационного процесса и при этом остаться семьей.
Безусловно, само проникновение в эту тему стрессогенно, потому что родитель обязательно столкнется с обладателями так называемого профессионального знания, которые будут ставить на вид его некомпетентность. Если это специалист, он может быть высококвалифицированным и грамотным, но родитель должен подтвердить свой партнерский статус.
Находясь в этом клубке стрессов, нужно заботиться о себе как о представителе группы риска. Родители аутистов, к сожалению, по данным целого ряда исследований, находятся в ней из-за большой нагрузки на организм, они быстрее стареют и чаще подвержены тяжелым патологиям. Вообще, если в семье кто-то болеет, то в той или иной степени заболевают все члены семьи.
При этом есть огромное количество семей, которые феноменально справляются и представляют собой образец благополучия и крепких браков. Они принимают такого ребенка как очень интересный вызов, как содержательное путешествие, видят в ситуации возможность открывать мир, счастливую возможность изучать самих себя и осваивать новые сферы знания и коммуникации.
Родители же, находящиеся на другом полюсе, особенно при отсутствии адекватной помощи, попадают в невыносимые условия. Глубокий аутизм - это очень тяжелое состояние: человек не понимает, что происходит вокруг, он неуправляем. Такому ребенку нужно раннее вмешательство, и в этой ситуации родитель должен знать, что делать, тогда уменьшается отчаяние. Если есть план действий и четкий терапевтический маршрут, то отчаиваться просто некогда. А ребенок тогда дает прогресс, и, опять же, меняется качество жизни.
- Как с этим справляетесь вы?
Мой ребенок - глубокий невербальный низкофункциональный аутист. Мне трудно предположить, как сложилось бы моя жизнь, не будь его, или будь он нейротипичным. Это тоже определенный этап: до какого-то момента ты думаешь над этим, а потом понимаешь, что это бессмысленно. Жизнь живется так, как она живется, и нет смысла цепляться за гипотетическую жизнь - надо уметь устраивать реальную. Сейчас я могу спокойно куда-то поехать, реализовать любые планы, я могу оставить сына не только с любым родственником, но и с посторонними людьми.
В целом же, принятие - это тяжелый и сложный психологический процесс, и пока довольно мало специалистов, которые реально могут помочь: это не совсем психологическая травма, и не одно и то же, что смерть ребенка. Но, как и любое испытание, это может сделать сильнее или наоборот, убить. Конечно, не думаю, что кто-то пошел бы на такое испытание добровольно - это законы поведения: человек добровольно никогда не предпочтет сложный пусть более простому и комфортному. Тем не менее я знаю много людей, которые не сосредоточены на сожалении и на поглощении себя «драмой аутизма». Однако знаю и много семей, которые распались. Это во многом связано и с отсутствием специализированной помощи в необходимом объеме. Когда родитель недостаточно компетентен и живет долгое время не столько с диагнозом, сколько с верой в его нереальность в его собственной жизни. Когда силы направляются не на организацию системной помощи ребенку, а на вытеснение факта диагноза. Это опасная позиция - она энергозатратна, очень опустошает и пожирает ценное время.
- Как родитель может понять, что его ребенка нужно обследовать?
Это как раз системная вещь, тут не может быть инициативы снизу. В идеале тема аутизма должна подниматься в роддоме. Да, роддом место праздника и зарождения надежд. Но надо найти формы, не омрачающие этот праздник, но и информирующие о вероятностях. Допустим, в роддоме определенное количество женщин, и им сказали, что у каждого 50-го мальчика будет аутизм. То есть, в этот момент здесь находится женщина, чей ребенок будет аутистом, и ей нужно сделать то-то и то-то. Каждая будет думать, что ее ребенок - 49-й, и это тоже закон психологии. Так задумано природой: блокировать плохие новости. Люди в своей массе не открыты для разговоров о рисках, это дело специалистов - их этому учат, это профессиональный навык.
Поэтому должна быть клиническая служба, стандарт, протокол, штатная единица, которая должна помнить о том, что кто-то из этих «свертков» - в группе риска по аутизму. В каждом роддоме должен быть специалист, который понимает, каковы критерии состояния младенца, требующего такого специального внимания, какие ранние исследования можно сделать и как их прочитать. В каждой поликлинике должно быть несколько педиатров, именно педиатров, которые могут распознать первичные признаки группы риска. Они должны не ставить диагноз, а проводить скрининг, либо все специалисты должны владеть этими навыками в определенном объеме.
К узким специалистам, как правило, попадают, когда проблема уже очевидна для невооруженного глаза. Между тем главная задача - выявлять аутизм, когда еще нет его очевидных признаков. Своевременное вмешательство творит чудеса: если выявить его до 2 лет, первого критического этапа развития мозга, есть все шансы не получить «настоящего» аутиста даже при наличии предрасположенности.
Какими личностными качествами должен обладать специалист, который может соприкоснуться с аутичными пациентами?
Я бы не сказала, что нужны какие-то особые качества. Человек должен просто знать инструменты, нужно проходить тренинги по особенностям развития. Эти специалисты должны понимать, например, что просто так снять майку и приложить стетоскоп к животу аутиста нельзя, сначала нужно выяснить, как ребенок относится к прикосновениям. Моего ребенка один раз пытался посмотреть отоларинголог, после чего мы год не могли ходить к врачу. Это при том, что такие дети способны переносить любые медицинские манипуляции, если их правильно подготовить. За рубежом существуют специальные программы подготовки для врачей общей практики и для других специалистов. Например, в Атланте есть курсы для сотрудников аэропорта по работе с путешествующими аутистами. Это просто охранники, уборщики, сервисные работники. Так неужели врачей нельзя обучить базовым правилам обращения?
- Специалисты какого профиля должны работать с аутистами, на ваш взгляд?
В 2012 году американская ассоциация педиатров провела обширный обзор, результат которого показали, что нет необходимости в медикаментозной терапии. То есть так - она вторична и факультативна и касается либо очень специфических симптомов, либо коморбидных заболеваний, но не аутизма как такового. Исследование показало, что, грубо говоря, работа с аутизмом - это поле психологии, а, точнее, даже коррекционной (лечебной) педагогики. Разумеется, необходимо использовать конкретные методики и знать законы поведения. АВА, прикладной поведенческий анализ - это и есть педагогика, которая лечит.
В той же Америке с аутистами работают и «классические» психиатры, но они обязаны уметь применять методы поведенческой терапии и вообще владеть поведенческим подходом. Если ребенку нужна таблетка, а она может быть нужна, к ней прибегают в последнюю очередь. У нас пока все наоборот: лечение начинается с фармакотерапии. Я думаю, что на самом деле совершенно неважно, специалист какого профиля - неврологического ли, психиатрического или психотерапевтического - будет заниматься аутизмом, главное - что он умеет делать, знает ли он принципы поведенческого вмешательства, готов ли именно к анализу поведения, а не к превращению этого поведения в абстрактный диагностический ярлык.
Дети феноменально меняются в рамках структурированных образовательных подходов. И важно не только то, что эти подходы помогают детям, важно, что только с этих позиций врач по-настоящему видит ребенка - без понимания того, что с ним происходит, без понимания природы характерного аутичного поведения, помочь невозможно. В наших психиатрических больницах ничего подобного не происходят, для аутистов это в лучшем случае бесполезно. А в худшем... лучше и не рассказывать.
- Прикладной поведенческий анализ - это экзотика для российской медицины? Что можно сделать в ее отсутствие?
Вы знаете, мне уже не хочется говорить об отсутствии. Я не хочу рассуждать о том, что можно сделать без нее. Я хочу говорить о том, что можно сделать, если бы она была доступна в системообразующем масштабе. Я хочу вглядываться в светлое, а не в темное. Может быть, в определенный момент ABA-терапия приехала бы в Россию и без меня, и получила бы развитие без Центра проблем аутизма. Но я считаю, что просто должна была ее «привезти».
С середины 1990-х годов ABA показала высокую степень доказанности. У нас, несмотря на отдельные частные мелькания метода в каких-то почти сакральных зонах, она считалась жесткой, к методу было негативное отношение. На самом же деле это просто игра с ребенком, в которой взрослый знает, чего он должен добиться именно от этого ребенка. Если вы не подготовлены и будете наблюдать за процессом со стороны, вы, может, ничего особенного и не увидите, вам просто будет казаться, что у учителя хорошо развит коммуникативный навык и он обладает очень позитивным темпераментом, заставляющим его постоянно восторгаться даже полным неумехой. При этом ABA - это очень тонкая и технологически отстроенная методика, отличается набором приемов и правил, которые исполнитель соблюдает неукоснительно. Возьмите 2-3-летнего невербального, не умеющего усидеть двух секунд на стуле, совершенно хаотичного ребенка, который не может концентрировать взгляд. ABA-терапия быстро доводит его до состояния, в котором он сможет удерживать взаимодействие в течение нескольких часов.
- Есть какие-то особые условия эффективности поведенческой терапии?
Конечно, у любого метода есть факторы, усиливающие его и ослабляющего. Аутизм, как и любое заболевание, лучше не запускать. Самое эффективное - это раннее вмешательство и интенсивность, от 20 до 40 часов в неделю. Дополнение другими методами, основанными на поведенческих принципах. Например, система социальных историй - вид терапии, при которой проигрываются (или визуализируются) определенные социальные сюжеты, которые обременительны в самостоятельном усвоении для человека с аутизмом. Посредством социальных историй можно решить как самую простую проблему - туалета, например, так и историю о том, как пойти в кафе и купить кофе или познакомиться с понравившейся девушкой. Человека ставят в ситуацию получения этого опыта, через который он обучается. Есть еще социальное моделирование: создается виртуальная реальность, в которую «вставляется» человек и проигрывается социальный история в 3D, у нас этой технологии пока нет. Но зато внедряется видеомоделирование - метод обучения навыкам через наблюдение и имитацию образцов поведения, воспроизводимых в видеосюжетах на мониторе.
- Из доказательных методик что-то еще есть, кроме АВА-терапии?
Другой вид терапии - это альтернативные коммуникации. Мы не ждем, пока ребенок заговорит, а вводим эти методы. Это могут быть системы обмена картинками, PECS, жестовые знаки, компьютерные коммуникаторы. У аутиста, даже у вербального, нарушена коммуникативная функция - он может «вырубиться» из речи, дать сбой в самый неподходящий момент. Средства альтернативной коммуникации - его обязательные «костыли» для социального движения.
ABA становится более эффективной в сочетании с сенсорно-интегративной терапией, поскольку аутизм - это комплекс сенсорных нарушений, неправильной, разбалансированной обработки информации. Когда осуществляется вмешательство, которое корректирует именно области мозговой деятельности, отвечающие за переработку разных видов информации, обучение в рамках ABA происходит быстрее. Но, главное, сейчас в России ABA-терапию уже нельзя считать недоступным заморским методом. Она помогает огромному количеству детей, которые никогда не имели такой возможности. И, несмотря на продолжающееся присутствие зарубежных преподавателей в качестве ведущих носителей знания, зародился пул отличных отечественных специалистов. Невероятную радость доставляет наблюдение за тем, как прорастает, уже совершенно независимо от тебя, этот метод по всей стране. Переводятся статьи, книги, возникают образовательные программы, все меньше разговоров о «вреде» терапии, о ее необязательности, о ее экзотичности. Это уже такое пышное ветвистое дерево профессии, и, конечно, очень, порой, приятно ощущать себя его корешком в русской почве.
- Как следует общаться с аутистом его матери, чтобы у ребенка не было недостатка в материнской любви?
Как общаться? Главный залог успеха в общении - это знание и понимание ребенка с аутизмом. Как мы общаемся с вами? Мы ведь сперва познакомились и представились друг другу. Если, например, семья многодетная, то аутисты в ней - совершенно магические дети, они получают самую большую порцию любви. «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» - помните? Кажется, это принцип аутиста. Но их холодность - это псевдохолодность, у них просто нет навыков для выражения привязанности. На самом деле, они фантастически эмоциональны, фантастически «завязаны» на свою успешность, чрезвычайно чувствительны к тому, что могут выглядеть глупо, а подстроиться «под умного» не могут. При этом их исполнительская функция нарушена настолько, что, например, они могут знать, как решить квадратное уравнение, но из-за моторных нарушений не могут этого продемонстрировать.
В этом смысле они обычные люди, но у них есть комплекс нарушений - двигательных, сенсорных, - искажающих слой поверхностных реакций. Например, они не могут с помощью мимики показать, что они вам рады. Но именно из-за этой псевдоотстраненности вы больше и больше хотите попасть в его пространство, вы выделяете такое количество внимания и любви, что ребенок становится просто светом в окошке.
- Как изменилась ваша жизнь, и что вы можете посоветовать другим родителям, чтобы выдержать это испытание?
Что касается меня, я думаю, что в чем-то я стала хуже, в чем-то лучше. Конечно, жизнь стала абсолютно другой. Я человек достаточно увлекающийся и понимаю, что есть какие-то вещи, до которых мои руки никогда не дойдут, не потому что на них нет времени, просто они находятся в зоне вытесненного интереса. Твоя личная пирамида Маслоу переворачивается с ног на голову. Кроме того, нужно обладать определенной и очень четкой установкой, чтобы оставаться социально активным и быть интересным людям, которые не связаны с этой темой, представлять для них какую-то ценность помимо того, что ты несешь в себе определенную проблему. Не замыкаться, одним словом. Это довольно сложно, и это тоже требует определенной работы.
Это первый совет, который я бы дала родителям аутистов. Когда у ребенка находят аутизм, очень многое сразу «отваливается», обнаруживается, что жизнь вообще не такая, как вы себе представляли. Некоторые друзья превращаются в мишуру, а какие-то люди, которые были просто прохожими, становятся очень близкими. Конечно, очень поддерживает семья. И поэтому сохранение ее чрезвычайно важно. Все, кого можно привлечь к позитивному сотрудничеству: бабушки, дедушки, братья, сестры, должны держаться вместе. Не для того, чтобы ныть им в уши, а для создания, условно говоря, такого терапевтического «эгрегора». Должно пробудиться нечто родовое, потому что это самое главное.
Конечно, у родителя происходит какая-то психологическая деформация: начинаешь на все смотреть через призму этой проблемы - в этом-то и опасность. Нужно тренироваться, чтобы это стало не доминантой, а само собой разумеющейся вещью, и это тоже этап. Преодолеть его нужно для того, чтобы не придти к изгойству, к которому человек обязательно придет, если будет считать, что аутизм его ребенка - это ось, удерживающая его Землю. Любой полноценный человек проживает сложную жизнь, полную выбора, потерь, боли, и нет единой меры для несчастья, которая представляла бы нечто универсально страшное и тяжелое. В измерении жизни нет абсцисс с ординатами. Вот у этого человека умер молодой муж, а у этого старая бабушка, а у третьего пожилая собака - кому хуже? Не сравнивают такие вещи.
При этом, конечно, аутизм, увы, не может быть только частным делом семьи. Деятельность, которой мы занимаемся, невозможна без родителей. Саму суть этих процессов изменения реальности несет тот, кто в этом варится, кто пришел не наблюдателем, не просто сочувствующим. У меня никогда не было негативного отношения к тем, кто болен, кто слабее меня - даже в школе я всегда защищала «странненьких». Но это все равно абсолютно не то, что я стала думать и чувствовать, когда у меня родился второй ребенок. Может, с тем же желанием помочь, с тем же градусом сопереживания результат моей деятельности не был бы таким, какой он есть.
В России профессиональное сообщество пока родителей, скорее терпит, существует в логике «мамочка, занимайтесь своим ребенком, мы тут сами как-нибудь все устроим, будет надо - позовем». В Америке, при всей невероятной развитости профессионального «аутистического» цеха, совсем иная парадигма. Специалисты преисполнены благодарности и уважения к родителям, они понимают их как главных исследователей, лаборантов, вдохновителей и самых добросовестных коллекторов информации. Это так и есть, и это происходит потому что, когда болеет твой ребенок, ты делаешь все возможное, чтобы его вылечить.
- Из того, что вы говорите, понятно, что это огромный труд - быть родителем аутиста?
Труд, страда, послушание. Есть ситуации, в которых человек сам не должен и не может справляться, ему нужна помощь. Даже если он говорит, что справился сам, рано или поздно его надрыв вырвется наружу.
Вообще же универсальных советов нет. С одной стороны, чем раньше начать вмешательство, тем лучше. С другой, надо понимать, что аутизм - это марафонский забег, а не спринтерская дистанция. Если кинуться в бег сразу же, вы очень быстро выдохнитесь. Конечно, в начале человек находится в панике: «Надо срочно что-то решать!». Но если он при этом не готов психологически и не понимает, в чем суть предстоящей работы, он только потеряет время, потому что не сможет отличить, условно, плохое от хорошего, он не будет знать, по каким критериям он может оценить работу специалиста. Если же спокойно сесть и разобраться в том, что такое аутизм, то возможностей справиться с этим уже гораздо больше. Нужно действовать быстро, но скорость не означает панику.
- Появились ли у вас свои герои в аутизме?
О! Тут много героев. Это вообще героическая сфера. Тут много почти военных действий. Часто это - поле бескомпромиссности. Но это же и поле завораживающей человечности. И отнюдь не только аутичной, а очень даже нейротипичной. У меня есть даже почти кумир. Поршиа Иверсен (Portia Iversen), мама мальчика с аутизмом и автор удивительной книги «Странный сын» (Strange son). Она, в некотором смысле, мое альтер эго. Я восторгаюсь ее деятельностью, с другой же стороны, мне бы очень не хотелось повторить ее судьбу в этой деятельности. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз.
Усилиями Екатерины, мамы 12-летнего Платона, и ее соратников четыре года назад в московской школе №1465 открылся проект совместного обучения здоровых и особенных детей.
Ваша работа над созданием Центра проблем аутизма началась с собственной потребности в квалифицированной помощи сыну. Как это было?
В возрасте примерно двух лет у моего сына Платона случился сильный регресс в развитии. Я забила тревогу, пыталась объяснить врачам, что ребенок, конечно, может развиваться медленно, но развиваться назад не может. Фактически я выбила у врачей диагноз РАС. Парадокс, но репутация у этого диагноза хуже, чем у онкологического, врачи боятся его ставить и всячески оттягивают этот момент. Потому что если врач ставит диагноз, то должен предложить сразу и клиническую работу по нему. А если он не знает, как лечить, то отодвигает диагноз на подальше. В то время как для самого ребенка с РАС крайне важно как можно скорее начать коррекцию, в том числе терапией на основе прикладного анализа поведения. В России же 10 лет назад этого не было даже близко.
- Как вы об этом узнали?
В русскоязычной медицинской и научной литературе, которую я начала изучать, меня поражало одно: то, что я читаю, не имеет абсолютно никакого отношения к моему сыну. Платон был контактным, ласковым, эмоциональным и обучаемым, вопреки описаниям отечественных экспертов. Просто он был другим. Тогда я пошла на родительские форумы США и в англоязычную литературу. Потрясла бездна, которая в тот момент разделяла «аутичные реальности» в США и в России. Это было сравнимо с тем, как если бы ребенка с диагнозом «диабет» в США лечили инсулином, а в России - приседаниями. На мой взгляд, самая большая драма родителей, чьи дети родились с таким диагнозом в 1980–1990-е годы, - то, что у них не было интернета.
- Тогда и родилась идея центра помощи родителям аутистов?
Самостоятельной идеи центра не было. Была идея создать научно-доказательную системную помощь своему ребенку. Сначала я заказала из США материалы научных конференций ARI (Института изучения аутизма) и Cure autism now!, вычленила тех, кому доверяли родители в США. Стала переводить часть информации, чтобы помочь своему ребенку и еще сотням российских детей-аутистов, которые в те времена буквально жили в аду.
Получив колоссальный объем новой информации и взяв на себя ответственность как мать, стали применять это на практике?
Да, конечно. Нужно было построить систему - дать людям информацию и реальные инструменты помощи - книги, лекции, конференции. Ни я, ни моя подруга Яна Золотовицкая не ставили задачи изменить мир. Мы просто хотели помочь своим детям сегодня и облегчить их жизнь завтра.
Нынешние родители, только недавно получившие диагноз РАС, обсуждают книжки, изданные по нашей инициативе, семинары и вебинары, спродюсированные нами, курсы лекторов, приглашенных работать в Россию нами. Они уже даже не знают о той реальности, которая была до этого.
- Как возникла идея совместного проекта вашего центра и ГБОУ «Школа №1465» по инклюзивному образованию детей с аутизмом?
По закону любой ребенок имеет право на образование. Но мы понимали, что в реальности детям с аутизмом закрыт путь в обычную школу. По сути, мы первыми занялись реализацией прав учеников с аутизмом на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». До этого закон и реальность расходились.
Аутист - ребенок сложный, он антишкольник. Он не понимает, что есть социальные правила, у него трудности поведения, у него серьезный коммуникативный дефицит. Чтобы его учить, нужно было понять, как это делать.
- Что сделали вы?
Изучив опыт других стран, и в первую очередь США, мы точно знали, что ученики с аутизмом могут успешно функционировать в системе образования. Выяснили, что в основе коррекции поведения аутистов лежит поведенческий анализ. Это означало, что если мы хотим снимать барьеры в действующей системе образования, то мы должны иметь педагогов, владеющих этим подходом. Мы организовали курсы и подготовили команду учителей, тьюторов, которые могли бы работать в обычной общеобразовательной школе. Затем мы внедрили сертификационные обучающие программы и открыли кафедру прикладного поведенческого анализа в Московском институте психоанализа. Там готовятся специалисты, которые потом идут работать с детьми-аутистами в обычные школы.
- Насколько важно воспитывать детей с РАС в естественной среде с их здоровыми ровесниками?
Мы сами не ожидали, насколько это будет эффективно. Задача была включить детей с аутизмом в обычный класс, не мешая при этом учебному процессу. А для этого необходимо создать ресурсную зону (отдельное от класса помещение), где у ребенка с РАС есть возможность переключиться, отдохнуть и дополнительно заниматься в индивидуальном порядке, чтобы нагонять отдельные навыки. Аутичный ученик постепенно адаптируется.
- Школа №1465 сразу согласилась на эксперимент? Как вы ее нашли?
В 2012 году, имея уже опыт обучения четверых тяжелых детей на базе коррекционной школы и подготовленных с помощью американского супервайзера учителей-тьюторов, мы обошли десяток московских школ. Сначала мы обращались в школы, у которых был опыт работы с инвалидами, но это оказалось ошибкой. Мы хотели внедрить новую систему, а значит, прежний опыт педагогов и психологов здесь был не нужен. Нужно было применять доказательные методы к нашим детям. Мы хотели их учить, а не передерживать.
Школа 1465 - районная школа Москвы, в которой вообще никогда не видели аутичных детей. Просто ее директор Артур Луцишин согласился на наш эксперимент.
Среди родителей здоровых детей есть мнение, что идея общего образования здоровых детей и детей особенных тормозит развитие здоровых. Что вы можете противопоставить такому мнению?
Если инклюзия тормозит развитие здоровых детей, значит она неправильно организована. Инклюзия не должна понижать планку образования, просто она требует педагогического креатива и развивает его.
Родители здоровых детей благодарили нас за то, что мы учим их детей толерантности, а учителя получили новый вызов. Когда дети сосуществуют с необычностью ежедневно, то она становится обычностью. А это естественное и толерантное пространство, в свою очередь, - лучшая терапевтическая среда для нездоровых.
- Сколько детей уже участвует в этой программе? Как вы оцениваете результаты?
У нас в проекте сейчас 22 ребенка, один из которых и мой 12-летний сын.
Платон учится в обычном 4Б классе, где из 30 учеников три аутиста. У каждого из них есть тьютор. Это не нянька, это технология. Например, кому-то нужен пандус, кому-то - вертикализатор, кому-то - ИВЛ, а ученику с нарушением нейроразвития - четко обученный тьютор. Расходы на эту технологию вместе со школой делит Благотворительный фонд «Галчонок».
- Как происходит обучение на примере одного дня?
У ребенка есть индивидуальная программа, например по чтению. Предмет «чтение» есть и у его одноклассников. Если ребенок-аутист невербальный и читающий, мы ведем его на ту часть урока, где практикуют понимание текста (через ответы на вопросы с помощью коммуникатора). А с части урока, где проверяется скорость устного чтения, он уходит в ресурсную зону. Это очень схематично, конечно. Но смысл в том, что это позволяет делать систему образования в целом более гибкой.
- С вашей точки зрения, кто главный для ребенка-аутиста - врач или учитель?
Сложно сказать, но важно одно - родитель не должен подменять учителя для ребенка. В первую очередь такому ребенку нужен педагог с определенными компетенциями. Аутизм как таковой преодолевается только обучением. При этом аутизм сопровождается большим количеством сопутствующих заболеваний, и здесь, конечно, нужен врач.
 - В обычном смысле слова дети с диагнозом РАС никогда не повзрослеют. Как родители принимают этот факт? Какие есть варианты адаптации людей с РАС в естественную среду в их взрослой жизни?
- В обычном смысле слова дети с диагнозом РАС никогда не повзрослеют. Как родители принимают этот факт? Какие есть варианты адаптации людей с РАС в естественную среду в их взрослой жизни?
Самая большая драма для родителей в том, что ты все время думаешь: «Что будет с моим ребенком, когда я умру?» Некоторые нынешние родители создают специальные форматы проживания - поселения, но для меня они не являются универсальным способом. Есть форматы, в которых аутичные люди могут быть встроены в реальные бизнес-процессы, и на Западе уже много бизнесов, которые поняли, что даже низкофункциональные аутисты могут быть ценными рабочими кадрами. В России это пока едва осознается.
Нужно понимать, что ментальное и интеллектуальное «тело» человека с аутизмом может быть развито, а социальное «тело» всегда недоразвито.
- Рано или поздно родитель ведь должен будет решить, с кем останется его выросший ребенок с таким диагнозом?
Это не одномоментный выбор. У меня, например, есть несколько идей обустройства дальнейшей жизни сына, но окончательного выбора никто сделать не может. Страх, что твоего ребенка кто-то обидит, когда тебя не будет рядом, всегда есть. Вопрос только в том, этот страх блокирует вас или переводит в какое-то конструктивное поле. Я желаю всем родителям действовать в конструктиве.
Снежана Митина – президент Межрегиональной благотворительной общественной организации «Хантер-синдром» . Эта организация занимается помощью людям, страдающим очень редким генетическим заболеванием – мукополисахаридозом (МПС). Началось всё с того, что у Снежаны родился сын Павел…
Паша родился большим (с весом 4730 граммов), здоровым бутузом, рос, умиляя родителей и бабушек-дедушек. Пока в 2 года и 9 месяцев ему не сделали простую операцию – убирали грыжу. У ребенка обнаружилась парадоксальная реакция на наркоз. Анестезиолог, который вел операцию, сказал, что нужно идти к генетику и выяснять причину такой реакции. Диагноз вскоре был поставлен. Что делать дальше – никто не знал.
«Это был не самый лучший период в жизни, – рассказывает Снежана. – Мы стали искать информацию, но на русскоязычных ресурсах слова мукополисахаридоз не было вообще, кроме маленького абзаца, что это дегенеративное, жизнеугрожающее заболевание и дети умирают в возрасте от трех до шести лет. «Позитива» добавляли и врачи, которые говорили, что лекарства нет нигде в мире и пока ребенок жив, его еще не успеют придумать. «Любите, что есть и рожайте следующих», – подытоживали специалисты».
Родственники и знакомые давали свои версии случившегося и свои способы выхода из ситуации. Кто-то говорил, что «в их роду урода быть не может, а значит мальчик – не их родственник». Кто-то плакал, кто-то не верил, кто-то убеждал, что причина всему – сглаз, а значит, нужно срочно отправляться по бабкам.
Муж Снежаны всегда был рядом. «Я ему в лаборатории, где нам поставили диагноз, сказала, что у него сегодня единственный шанс уйти из семьи, – говорит она. – Потому что сразу я переживу две беды – диагноз и потерю боевого товарища. А вот дважды боль переживать мне будет тяжеловато. Он очень обиделся, на что я заметила: мы на подводной лодке, сегодня погружаемся, и кто не спрятался, я не виноват. Заведующая лабораторией еле сдерживала смех, а потом сказала, что за 20 лет работы впервые слышит подобное. А у меня просто таким образом стресс выходил.
На самом деле чаще мужья уходят, когда в роддоме узнают об . У нас же первые почти три года ребенок был здоровый, смешной. Мне кажется, у детей с мукополисахаридозом второго типа заложена специальная программа, чтобы в первые два-три года жизни они успели влюбить в себя родителей настолько, чтобы родители считали их самыми ласковыми. Они действительно самые нежные, ласковые, необыкновенные, даже если в семье пять детей, например. Это подтвердит любая мама, у которой ребенок с подобным диагнозом».
Болезнь давала о себе знать, меняя и жизнь Снежаны. Сначала ее попросили забрать Пашу из общего детского сада, потом – из специализированного, для детей – инвалидов по слуху, потому что Паша полностью оглох, а в садике работали только с детьми, у которых сохранились остатки слуха. Потом – выдавили с работы: создали такие условия, что Снежана вынуждена была уйти. Полностью изменился круг общения.
«Я понимаю, что тех настоящих друзей, прекрасных людей, которые меня окружают сегодня, в моей жизни не было бы, если бы не мукополисахаридоз. Нам иногда говорят: «Вы – секта». Да, мы верим в светлое, доброе, вечное. Мы верим, что законы работают. Мы верим в то, что люди должны друг другу помогать. Для сегодняшнего мира это, возможно, сектантский взгляд. Если это так, то меня, в общем, вполне устраивает».
Сейчас Паше 16 лет. Планов на будущее Снежана не строит: нужно жить сегодня. Но всё же старается сделать так, чтобы будущее, причем не такое уж далекое, изменилось. Сейчас она мечтает о том, чтобы в России появились росписы – места для сопровождаемого проживания инвалидов. Чтобы мама могла отвести туда ребенка и – сходить в парикмахерскую, в больницу, сделать ремонт и так далее. Вроде детского сада для подросших детей, где круглосуточный уход.

«В обычных семьях тоже накапливается усталость, – говорит Снежана. – Но обычная семья взяла, сорвалась, поехала к бабушке, на море, в гости с ночевкой, еще как-то. С нашими детьми не всегда можно поехать в гости или к бабушке. Не каждая бабушка будет рада. Некоторые бабушки говорят: «Не приезжайте к нам во двор, вас соседи увидят». А некоторые бабушки говорят: «Не надо бегать по моим грядкам, у меня тут цветы, овощи». А у нас вот на даче дети растут. Когда меня спрашивают: «А что вы выращиваете на даче?», я говорю: Павлика, внучек. У меня есть старшая дочь, ей 25 лет, и две чудесные внучки».
Добывая дорогостоящие лекарства для своего сына и таких, как он, детей, которых не так много в России, меняя законодательство, чтобы за лекарство платило государство, Снежана уставала. Тогда она писала стихи и – черпала силы в сыне.
У нас почему-то принято таких детей прятать, будто они какие-то некрасивые. Это неправда! Спросите любую маму ребенка с мукополисахаридозом, какие дети самые красивые, она ответит – наши. Когда ты кого-то любишь, любовь вокруг выстилает тебе дорогу. Нужно научиться любить и разрешить себе это делать».

«Хрупкая» Оля и борьба со страхами
Елена Мещерякова – президент РОО помощи больным несовершенным остеогенезом (это редкое генетическое заболевание, вызывающее хрупкость костей) «Хрупкие дети» , директор благотворительного фонда «Хрупкие люди» … Она очень хорошо знает, в чем нуждаются люди, которым поставлен подобный диагноз. А началось всё 12 лет назад, когда на свет появилась Оля.
Оля родилась с переломом и после рождения ее сразу же, в первые сутки, перевезли в Филатовскую больницу. Там сломалось второе бедро. Врачи предположили «хрустальную болезнь». На третий день пришел генетик и подтвердил диагноз.

Елена Мещерякова и ее дочь Ольга. Фото: Анастасия Кулагина
«Мне был задан вопрос, не откажусь ли я от ребенка, – вспоминает Елена. – Я так понимаю, что это стандартная схема: когда рождается ребенок с тяжелым диагнозом, врачи обязаны уточнить, останется ли он с родителями, чтобы предпринять какие-то действия, если они откажутся. То есть уговоров из серии «зачем вам инвалид» не было. Но всё равно это очень тяжелый вопрос. Когда тебе его задают, ты осознаешь, насколько, на самом деле, ситуация серьезная. Когда я его услышала, то заплакала. Но, конечно, ответила, что не оставлю, что это мой ребенок, каким бы тяжелым ни было его состояние.
Когда рождается ребенок с тяжелым заболеванием, необходимо, чтобы маму (и папу) тут же подхватывали психологи и помогали принять ситуацию болезни. От того, как это будет происходить, очень многое зависит. В том числе и прогноз физического развития малыша. И даже когда сообщают о диагнозе, рядом должен находиться специалист-психолог, который может смягчить этот удар для родителей».
Никаких психологов рядом с Еленой, понятное дело, не было. Только муж, который сам испытывал шок от случившегося. Супругам надо было самим учиться принимать произошедшее.
Сначала у Елены была стадия отрицания. Она отказывалась верить, что ее ребенок – инвалид. «Я не могла в это поверить, потому что это настолько было далеко от меня. Это воспринималось как другая реальность, я думала, что со мной произойти этого просто не может», – рассказывает Елена. Ей казалось, что вот этот перелом – последний, а дальше будет всё как у всех.

Еще Елена выделяет стадию сделки. То, что с ребенком проблемы, на самом деле было понятно еще на 28-й неделе беременности. На УЗИ врачи заметили, что есть укорочение костей и поставили диагноз «карликовость». На 30-й неделе Елена пошла в церковь – креститься. И потом, после рождения ребенка, казалось, что если будешь делать что-то правильное, всё наладится. Но изменений не происходило, а Елена всё думала: «Господи, почему Ты мне не помогаешь?!»
«Изменения в лучшую сторону стали происходить только после того, когда я приняла эту ситуацию, – рассказывает Елена. – Когда я поняла, что всё случилось, и мне с этим надо жить и не нужно этого отвергать, не нужно бояться общества. Потому что первая реакция у меня была – уехать жить на дачу, оградиться высоким забором, чтобы никто не видел ни меня, ни ребенка».
Когда Оле не было еще трех лет, Елена восстановилась в институте, правда, сменила специализацию – стала учиться на клинического психолога и уже в теории изучала то, что начала «проходить» с дочкой на практике.
«Сейчас я по мере возможностей пытаюсь повлиять на родителей , чтобы они перестали отвергать ситуацию, увидели, как можно двигаться дальше, каковы их возможности (а они есть у каждого человека, в любой ситуации). Только с полным приятием можно вернуться к полноценной жизни, начать ей радоваться», – рассказывает Елена.
Ей помогли поддержка и настрой мужа. Он сразу задал правильное направление, объясняя супруге: «Обычный ребенок падает, сдирает коленку, у него появляются царапины, может течь кровь. А наш ребенок падает и ломает кость. И относиться надо к этому примерно одинаково». А еще муж помог Елене избавиться от чувства вины: ей казалось, что это из-за нее дочка родилась такой, но супруг объяснял: здесь не может быть виноватых.
Относиться спокойно к тому, что происходит с твоим ребенком – трудно. Особенно когда он учится ходить. Нельзя удерживать, запрещать, иначе он не будет нормально развиваться. Но делая свои первые шаги, Оля вновь ломала кости. Да еще бабушка с дедушкой могли попенять, что родители плохо следят за девочкой. «От каждого перелома у тебя волосы встают дыбом, сердце бьется учащенно: ты понимаешь, что не можешь защитить своего ребенка, ты ничего не можешь сделать, – рассказывает Елена. – Наша болезнь – коварная. Сегодня ребенок делает какое-то движение и оно не вызывает переломов, а завтра она делает то же самое и происходит перелом».
Сейчас Ольге 12 лет. И всё это время Елена учится бороться со своими страхами, за Олю, за ее будущее, чтобы они не мешали ей быть счастливой. Появляется страх, Елена ищет его причину и – побеждает.

«За эти 12 лет моя жизнь полностью изменилась, – рассказывает Елена. – То, что я знаю сейчас – несравнимо с тем, что я знала до появления Ольги. Я благодарна, что появился тот круг людей, с которыми я сейчас общаюсь, мои люди, моя стая, которые также хотят что-то изменить в жизни, сделать лучше мир. Я стала абсолютно другим человеком. Мне хочется помогать другим. Болезнь дает много проблем, но она дает и возможности. Только не все их видят».
Оля – второй ребенок в семье, после нее родились еще двое. Когда Елена забеременела третьим, Мишей, Оле было два года. Елена испугалась, а вдруг у ребенка тот же диагноз? Муж тоже испугался. «Я помню, что даже в каком-то состоянии стресса взяла у врача направление на соответствующую процедуру, – говорит Елена. – А потом как очнулась – я же ни за что никогда не смогу убить собственного ребенка! Речь о его жизни, при чем тут мои страхи? А потом родилась и Люба. И сомнений уже никаких не было.
Тем более, когда родился Миша, это стало переломным моментом в отношениях с Олей. Мне как раз удалось преодолеть свое неприятие болезни, свой страх, и я увидела, что лечение, которое мы проводили, начало давать результаты. Как и тот двигательный режим, который мы с ней соблюдали – «хрупким детям» необходимо постоянное движение. Я видела и чувствовала, что Бог нам помогает. Просто если тебе что-то дается, значит, так надо, твоя задача – это принять».
«Я вам ее приведу однажды, главное, чтобы вы живы были»
Юлия Бондарева – директор адаптационно-восстановительного центра для детей-инвалидов «Сделай шаг» . Центр помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы, СДВГ, . Детский церебральный паралич – такой диагноз у Даны, дочки Юлии.
То, что с ребенком не всё в порядке, стало ясно еще в родзале. Да и у самой Юлии медицинское образование, поэтому она сразу увидела: что-то не то. Сначала диагностировали органическое поражение центральной нервной системы: раньше до года диагноз ДЦП не ставился, а уже где-то в полтора года обозначили именно детский церебральный паралич. Когда Дане был год и семь месяцев, Юля узнала, что при родах ей сломали один шейный позвонок…
Тогда, в роддоме, ей сразу предложили отказаться от ребенка. Причем эту идею поддержал и отец Даны. «Оставим ребенка и родим нового», – легко предложил тогдашний муж Юлии. Сейчас девочке 12 лет, и уже больше десяти лет отец не видел ее.

«Ни у меня, ни у моей мамы такой мысли даже близко не было, – говорит Юлия. – Ребенок очень желанный, ребенок долгожданный, вымоленный. Меня очень поддерживала и помогала мама. Она помогала и ухаживать за Даной, кормить ее, сидела с ней, потому что мне надо было выйти на работу: нужны были деньги на реабилитацию дочки».
Когда Дане было чуть больше года, Юлия переехала из Ставрополя в Москву – чтобы было больше возможностей для реабилитации. Едва переехав, Юлия хотела положить Дану в Научно-практический центр детской психоневрологии (бывшую детскую психоневрологическую больницу №18), за деньги: прописки тогда не было. Но в больнице отказали: «Вам полтора года, у вас узкие носовые ходы, ребенок через полтора года умрет, положите ее и не трогайте». Юлия с обидой проговорила: «Я вам ее приведу однажды, главное, чтобы вы живы были». Пока не привела, Дана еще не ходит, но уже самостоятельно стоит.
Юлия освоила профессию логопеда, у нее появилось еще два ребенка – мальчики девяти и шести лет. Она так боялась, что при родах опять что-то случится, что буквально настояла на кесаревом.
Шесть лет назад создала организацию «Сделай шаг », реабилитационный центр для детей с . «Мы помогаем детям в реабилитации и социально-бытовой адаптации, – рассказывает Юлия. – У детей, которые там занимаются – колоссальные результаты. Моя дочь научилась сидеть, научилась держать голову, учится в 4-м классе обычной школы, вышивает иконы».
Братья рисуют старшую сестру обязательно радостной, без коляски и с воздушным шариком в руках.
Специально менять что-то в квартире для Даны не требуется: она достаточно худенькая девочка и очень старательная. Многие вещи понимает с полуслова, иногда – даже интуитивно. Старается всё делать сама. По дому – ползет или скачет, сидя в позе лягушки. На улице передвигается в коляске.
В свое время у Даны были проблемы, связанные с кормлением. Она не глотала, жевала очень плохо. Но вместе с мамой Дана это преодолела и теперь любую еду жует, грызет, глотает.
Если Юлия чувствует, что устала, что-то идет не так, отправляется в паломнические поездки, на святые источники. Причем Дана окунается вместе с мамой, невзирая на то, сколько на улице, +20 или –20.
Дана очень хочет ходить, и не просто ходить, но еще и кататься на коньках. И вместе с мамой к этой мечте стремится.
«Мамам, у которых появился ребенок-инвалид, я всегда говорю – нельзя бросать своих детей. Надо принимать своего ребенка таким, какой он есть. И стремиться подарить ему детство. У нас в центре – 147 подопечных, среди них те, чьи отцы оставили своих жен с . Чьи бабушки-дедушки отказываются помогать. Часто мама остается один на один со своей бедой. И здесь главное – верить…
Нас по-настоящему верить научила именно Дана, хотя верующей я была с детства, как и моя мама, и моя бабушка».

Поиски после родов
Наталия Кудрявцева – руководитель Ассоциации родителей детей-спинальников. Добиваться того, чтобы у таких детей была возможность получать грамотную медицинскую и другую помощь, Наталия стала, когда у нее родилась дочка, у которой – последствия спинномозговой грыжи.
О том, что у ребенка проблемы со здоровьем, она узнала прямо в родзале. Без какого-либо объяснения ситуации со стороны врачей. Они не говорили, что делать, какие возможны прогнозы и так далее. Просто сообщили, что положение очень серьезное и нужно отказаться от ребенка, но после ее решения о том, что от ребенка она не откажется, сказали, что следует срочно искать нейрохирурга. Чем Наталия и занималась в первые сутки после родов. Ей выделили телефон в кабинете заведующей, объяснили, куда она может звонить.

На следующие сутки ребенка отвезли в реанимацию, потом прооперировали.
«Все были в шоке, – вспоминает Наталия. – Такого никто не ожидал. К такому нельзя подготовиться. Я, как мать, наверное, оказалась самой ответственной в тот момент. Конечно, поддержал муж, начали помогать и мои родители, но моральная ответственность за лечение всегда лежала на мне. Никогда никому я не позволяла эту ответственность со мной разделять. Я до сих пор ощущаю себя настолько связанной с дочкой эмоционально, физически, что всегда знаю, что она чувствует, что она делает, что у нее где болит. Никогда никто другой не поймет ее так, как понимаю ее я».
После рождения Жени Наталия стала самостоятельно пытаться разобраться в заболевании ребенка, так как ни один из врачей этого объяснить не мог. Для этого пришлось изучать медицину. Но чтобы помочь девочке, этих знаний оказалось недостаточно. Ведь нужно было добиваться оказания грамотной медицинской помощи, а для этого – изучать юридические вопросы, вопросы государственного устройства и еще много чего другого. Юристом она была и до рождения ребенка.
Вместо того, чтобы только тратить силы на лечение и реабилитацию, приходилось ломать стены, устанавливаемые чиновниками, были попытки объявления голодовки, когда, казалось, ничем больше чиновников не пронять.
«Только лет шесть назад, – говорит Наталия, – начали понимать, что дети-спинальники не имеют интеллектуальных нарушений, они хорошо учатся, способны рожать здоровых детей, у них высокий реабилитационный потенциал. Но они способны интегрироваться в общество, если им вовремя оказывать комплекс медицинской помощи, соблюдать преемственность в реабилитации: сначала служба ранней помощи, потом медицинская реабилитация, потом социальная реабилитация. Это постоянная интенсивная поддержка со стороны государства, как медицинских учреждений, так и социальных, образовательных.
Если всё это ребенок получает, то к совершеннолетию он мало отличается от здоровых (тут нужно понимать, что это всё равно пожизненная инвалидность), это достаточно здоровый, социально активный, образованный человек, который создает свою семью и мало чем отличается от окружающих его сверстников».

Жене сейчас 14,5 лет, она учится в обычной общеобразовательной школе, учится хорошо. Перед ней стоит вопрос, куда пойти учиться дальше, после окончания школы, какой профессиональный путь выбрать. Как и положено подростку, перед которым впереди – огромный выбор, Женя никак не определится, кем же ей быть. Сначала она хотела стать программистом, затем журналистом, затем – фотографом. Ее мама уверена, что завтра появится новое пожелание. Девочка изучает два иностранных языка, ходит на дополнительные занятия. Всё как у всех.
«Мамам, у которых дети со спинальной инвалидностью, я бы рекомендовала, в первую очередь, выяснять у врачей подробную информацию о заболевании, о способах, методах лечения, – говорит Наталия. – Если мама что-то не понимает, она должна точно знать: врач обязан объяснить ей в доступной форме всё, что он делает с ее ребенком, всё, что он планирует делать, последствия его действий, каков будет ли реабилитационный потенциал, какие-то улучшения, ухудшения. Только не нужно ждать чуда, не нужно задавать вопрос: «А в каком возрасте мой ребенок будет ходить? Это глупый вопрос, ни один врач вам на него не ответит. А если врач на этот вопрос отвечает с точностью, как минимум, до года, бегите от него быстрее и ищите другого врача.
И знайте, что ваша проблема – системная, это не только ноги, это и почки, и мочевой пузырь, и спинной мозг, и головной мозг, и тазобедренные суставы, стопы, и много чего еще. Это не то, что вы пошли к одному доктору-неврологу, который выдал вам кучу назначений и у вас всё решилось. Нет, это пожизненная борьба за здоровье своего ребенка. И поддерживающие курсы, и лечебные процедуры, и реабилитация.
К моему глубокому сожалению, мы никак не можем «пробить» комплексное оказание медицинской помощи – ортопедической, нейрохирургической, нейроурологической, неврологической – в одной больнице, чтобы ребенка не нужно было таскать из Санкт-Петербурга в Ярославль, потом в Москву, потом в Евпаторию, потом еще куда-то, чтобы он мог получить весь комплекс мероприятий в одном месте. К сожалению, мы не можем этого добиться до сих пор. Но время не стоит на месте, мы над этим работаем. Я думаю, что мы сможем это сделать.

На данный момент, после нескольких круглых столов с участием врачей и родителей, у нас организован консилиум на базе детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского по нашим детям, где будет решаться вопрос о необходимости хирургического вмешательства, о рекомендации технических средств реабилитации. Там минимум два раза в год проходят у нас круглые столы, где родители из разных городов России общаются со специалистами. То есть диалог между родителями и врачами установлен, и это очень важно.
Мы активно сотрудничаем с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, Департаментом образования, Департаментом здравоохранения. В 2014 году по решению министра Правительства Москвы, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна было открыто первое в России детское реабилитационное отделение для детей с патологиями позвоночника и спинного мозга в реабилитационном центре им. Л. Швецовой. Эта работа будет продолжена».