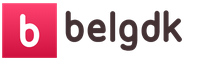Равняется любовь. Дневник читателя. "Не равняется любовь" Лары Галль Роман Не равняется любовь
©Лара Галль, 2009
©ООО «Астрель-СПБ», 2009
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Инне Шишкиной – в покрытие дефицита реальности
ЛЕРА
Смотрю из чужого окна на незнакомую улицу. Порой хочется не думать. Оформлять в слова аморфность мыслей, недоношенных сознанием, не хочется.
Хочется идти по улице, мягко ударяясь взглядом о летние романтичные платьица, живущие над ножками барышень.
Весна какая необычная… март, апрель и середину мая стояли серые холода, потом резко потеплело, распустились, наконец, листья, и на город сошла жара – летняя совершенно жара, и все девушки нарядились в платья – крохотные, жеманные, помесь блузки и ночнушки.
И так они популярны этим летом, так любимы, что их напяливают на самые разные тельца. Бывают такие фигурки – крепенькие избыточные ножки, а над ними изящный торсик. Такие торсики в коротеньких платьицах, с высокой линией талии, с маленькими рукавами фонариком, приводят меня в замешательство. Особенно если из «фонариков» торчат крепенькие же ручки. Хочется заглянуть «Дизайнеру» в глаза, уловить рассеянность, легкую грусть, помаячить ладошкой перед глазами: «Ну же, очнись!» – но отвлекаться лень, вот еще одно платьице, бумц…
Розовое с желтыми цветочками – коротенькое, как все они в этом сезоне, – над ножками, смоделированными именно для него, – тонкими в кости, коже, игре мускулов.
«Прелесть», – радуюсь редкой гармонии тела и обертки.
Эти «пасторальные» какие-то платья погружают меня в прохладные сумерки воспоминаний.
…Мне тринадцать. Улица наша – из частных домов и домишек.
Девочки-ровесницы по соседству: Галя, Наташа и две Тани – русская и армянка.
Мальчики – два брата Тани-армянки, родной и двоюродный, с русскими именами Миша и Вова. Миша похож на коренастого мужичка с лицом черной птицы. Вова – рыхлый очкарик, от него веет чем-то порочным почему-то. Сторонюсь обоих.
Впрочем, они меня не замечают – статная Галя и золотистоволосая Наташа с кукольным ротиком привлекают внимание всех и всегда.
Таня-армянка тоже хороша, но у нее кривые толстые ноги, зато она добрая, я люблю ее больше других.
Другая Таня – тонколикая красавица – мечена чем-то трагичным, что неизбежно чувствуют плотные потные земляные мальчики и избегают ее. Да и она почти не бывает на улице. Такие платья, что модны нынче, ей очень пошли бы. Но метка не зря лучила невидимую жуть – Таня умерла в восемнадцать…
…А в то лето к бабушке-соседке вдруг приезжает внук из Воркуты – из Воркуты в Ростов, какая даль. Никто и не думал, что у ее сына-алкоголика тоже есть сын. И какой!
Настоящее сокровище для нас – тринадцатилетних девочек – сероглазый, светловолосый, с длинными золотыми ресницами, тонкий, рослый подросток.
И зовут его не Миша-Вова-Петя – ну числятся неромантичными у нас эти имена, что делать.
И даже не Саша-Сережа – излюбленные имена из девочковых «анкет» с туповатыми вопросиками и жеманными ответиками.
О нет, все еще острее: мальчика зовут Олег.
Я – странноватое дитя-в-себе, плохо одетое, темноглазое, с курносым носом – сразу себя исключаю из всех возможных сюжетов с этим невиданным гостем – фарфороволиким принцем.
Золотистая Наташа с алым крохотным ротиком-бантиком – вот ему пара на это лето.
Девочка и мальчик с картинки из идеальной жизни: он робеет, она смущена, солнце подсвечивает щеки, ветер развевает волосы – оба прекрасны без изъянов…
И, разумеется, так и было. Но только первые три дня.
…А на четвертый день этот мальчик является к нам в дом. По-соседски запросто. Бабушка послала за спичками. Берет коробок, твердо выговаривает вежливое «спасибо» и так же уверенно спрашивает у моей мамы:
– Можно я приду к вам в гости?
Мама растерянно моргает:
– Мне пора на работу.
– Это ничего, – не смущается принц.
– Ну… пожалуйста, да, приходи, конечно.
– Спасибо. Я приду.
Слушаю этот диалог в изумлении. Мальчики так не говорят! И что он собирается делать у нас в гостях?!
Олег возвращается через полчаса.
Я, спасаясь от дневной жары, сижу в кухне на полу – самое прохладное место в доме, кухня устроена в полуподвале. Сижу себе тихонько, еще проживая написанное в книжке. Мама ушла на работу, папа еще не маячит на горизонте – мой маленький терминальный рай.
Этот странный мальчик – Олег – садится на пол рядом. Молча. Более того – он кладет голову мне на плечо. Молча. Он безмятежно спокоен.
Мое удивление, пиком метнувшееся в дикое напряжение, постепенно гаснет. Сижу не шевелясь.
Олег поднимает голову и произносит:
– Я не сильно давлю тебе на плечико?
– Я еще немножко так посижу, хорошо?
Молча киваю.
Я еще не дружила ни с одним мальчиком. Ни за руку не держалась, ни тем более не целовалась. Даже бутылочка в одноименной игре никогда не указывала на меня ни горлышком, ни донышком для робкого чмока в щеку.
И тут вдруг такое – голову на плечо кладут и еще немножко так посидеть хотят.
До сих пор не понимаю, как это было возможно. Моя жизнь была плотно изолирована от всяких простых подростковых чудес: в мире девочек и мальчиков я чувствовала себя так, словно на мне шапка-невидимка.
Что-то мешало мне вместе с другими детьми нестись по ярким дням в стихийном ритме бездумного детства. Да и страх ежевечерних пьяных буйностей отца вытравлял из глаз золото радостной безмятежности, тесня меня за ограду детского мира.
Я играю вместе со всеми, но они – дети, а я – травести.
С приходом этого чужестранника Олега у меня начинается какая-то двойная жизнь. По утрам северный принц по-прежнему играет со всеми девочками во все эти малоинтересные мне догонялки, прятки, в совсем не интересные мне карты, домино, лото.
Я тоже играю со всеми – детям нужны другие дети. И Олег ничем не выказывает своего предпочтения. Никак не объединяется со мной при других девочках.
В обед мы расходимся по домам до вечера. Меня всегда ждет какое-нибудь тихое дело – глажка или зашивание. Мама обычно уходит на работу во вторую смену. Олег, часто не дождавшись даже ее ухода, заходит, усаживается рядом, молча следит за движениями рук.
– О чем ты думаешь? – иногда может спросить.
– О папе, – отвечаю я, в предчувствии вечера.
– Да, – понимает он, у него тоже есть такой папа.
Нет, мы с Олегом не целуемся, не обнимаемся.
Он дожидается, когда я освобожусь, сяду на пол, прислонясь спиной к прохладной стене. Садится рядом, поджав ноги вбок, кладет голову мне на плечо. Мы молчим. Звуки лета ткут яркий теплый воздух там, вовне, а тут только я и Олег. Его безмятежность легко накрывает мою напряженную грусть, баюкая, успокаивая…
– Почему ты не дружишь с Наташей? Она такая хорошенькая, – спрашиваю однажды.
– Потому что у тебя самые красивые глаза на свете, – отвечает он тихо-тихо, и я пугаюсь, что мне послышалось, но не переспрашиваю, пусть послышалось, пусть…
Эти долгие посиделки вдвоем – наша тайна. Никто, никто не знает о ней. Но однажды мы решаем идти всей компанией в парк на аттракционы.
То есть они решают – мне нечего и думать об этом, аттракционы – дорогое удовольствие. Максимум что мне перепадает порой – десятикопеечные «лодочки» и пятикопеечное детское колесо обозрения.
Издание «В курсе» публикует в рубрике «Почитать» интересные рассказы, новеллы и миниатюры. Ранее они выходили на сайте www.proza.ru и других сайтах.
Александр Петербургский. Равняется любовь
амы сумочка!.. Из красной кожи, небольшая. Она театральная, подарок папы маме. И ее под разные нужные штучки хорошо было бы мне. Вот только если ее – мне, то с чем тогда бы мама посещала театр? Пусть даже театра у нас нет, а только клуб!
Но мама с папой в театре были – раньше! Там так интересно! Там артисты, там антракт, буфет с мороженым, фойе красивое!..
Нет, изобразить весь театр мама не рискнет. А вот кусочек фойе, если папа ей подыграет, они для меня изобразят прямо сейчас.
– С превеликим удовольствием! – встает немедленно папа. Как зазнайка, задирает подбородок, оттопыривает локоть! А мама берет его под ручку, и они идут. Как будто они в театре!
Мама улыбается, смеется, папа ей на ушко что-то щекотное шепчет! До дивана! Обходят вокруг стола! По нашей ковровой дорожке к окну!
Они как будто собираются играть в свой театр до ночи, меня как будто рядом сейчас и нет! И вот, чтобы я для папы и для мамы снова появился, со стула спрыгиваю и головой влезаю между ними.
Кто я? Я Саша. Мне 5 лет. И я люблю!..
Больше всего – маму и папу.
Нашу кошку. А еще люблю кино.
Когда тебе читают на ночь книжку – хорошо. Про то, что съела колобка лиса. Про курочку Рябу. Про то, что до трех поросят волк так и не добрался. А кино! Там корабли. Там страшные пираты! Там крокодил один, он так вокруг всех ел!
Главное, чтобы тебя в кино взяли. Потому что иногда его ждешь, а оно вдруг оказывается «до шестнадцати лет…».
И все, и можно не проситься – не возьмут с собой. Хотя вам уже пять, а скоро будет шесть. И вы сидите дома, с вами кошка, радио на стенке. Ждете. Хотя могли бы уже спать: о том, что в том кино происходило, вернувшиеся из клуба папа с мамой вам не расскажут все равно.
Во-первых, кое-что мне в этом фильме рановато, сообщает с сожалением папа. А во-вторых, там есть такие сцены!..
«Все, все!» – перебивает его мама. Ей кажется, что если не остановить, то папа ненароком может пересказать мне всю картину! А там действительно… Там многое не то что детям – кое-что необходимо вырезать вообще! Этот фильм мне не понравился бы точно. И пусть там папа ей не улыбается! А живо забирает сына умываться и укладывает его спать.
А я ни грамма и не расстроен! Ну если только капельку, совсем чуть-чуть. Фильмы еще будут, целый миллион! В одном, я видел, наш разведчик ка-ак кулаком плохому дядьке даст! А тот как закричит, ка-ак упадет! Как в лужу шлепнется с размаха!
А бывает, весь фильм ходят друг за другом, ходят. За вечер так ни разу и не стрельнут. И так грустно поют, что мама иногда даже плачет.
Дома мама плачет только от лука. Иногда лишь на театральную сумочку взглянет, вздохнет.
В театр мы до сих пор так и не собрались, зато однажды вместе решили хранить в ней до поры разные наши справки, паспорта, чтобы сумочка без дела не лежала. А главное – военные билеты. Например, мой папа – самый настоящий старший лейтенант! Мама – лейтенант, хотя и медицинской службы. А форму не носят они потому, что «сейчас мы в запасе», – в который уже раз объясняет мне папа. Резервистам форма не положена, как не положены и пистолеты, и автоматы.
С оружием и вправду у нас дома плохо. Есть только нож на кухне да топор в сарае, а мне так нужен настоящий автомат! И мама обещает, если по какой-то нечаянности он у нее когда-то все же появится, немедленно отдать его мне.
Вот мне с автоматом было бы здорово! С ним бы я был как солдат! Не то что сейчас: без пистолета, без морского кортика! Сейчас я просто сын. Для папы иногда – сынище. А для мамы и вовсе я сынок.
Объясняю им, что я не сынок, я – Саша! А мама в ответ только смеется и, неожиданно схватив, целует меня в лоб, и в нос, и в обе стороны лица!
Я вырываюсь, тру свои щеки! Говорю, что если маме нужно, то с папой девочку себе пусть в магазине купят! А я мальчик, мальчишки не целуются – никто.
– Ты думаешь? – почему-то глядя на папу, переспрашивает мама.
– Да! – отвечаю я и за себя, и за него, так как папа в это время немножко закашлялся. – Да!
– Как вам будет угодно! – легко соглашается мама и, отпустив меня уже совсем, принимается перебирать документы в сумочке дальше. Некоторые читает. Некоторые откладывает в сторону сразу. А один… один из наших документов мой. Он маленький: одну страничку открываешь, а другую закрываешь – и все, кончился документик. – «Свидетельство о рождении!» – читает торжественно мама.
И я, и папа в который уже раз слушаем, как когда-то в далеком городе Находке такого-то числа родился замечательный мальчик Саша. Что у него есть папа, мама! А дальше только печать и подпись.
И тут в разговор влезает папа с вопросом, помнит ли мама, какой фонтан я устроил, когда они меня только принесли и развернули?
– Еще бы! – подтверждает весело мама. А помнит ли сам папа, как я сразу полюбил купаться!
– Конечно! – говорит папа. Ведь именно он и научил меня плавать.
– Кто?! Ты?! – недоверчиво переспрашивает мама. – Ты, который поначалу даже боялся взять на руки сына?
Но оказалось, папа не боялся, он просто не хотел ограничивать мою свободу. Зато потом! Кто скажет, сколько часов я провел на папином животе потом? И какие казусы порой при этом случались?!
Со мной маленьким всем было весело и интересно. Папа на своей подводной лодке буравил глубины Тихого океана, мама в госпитале лечила простудившихся моряков! А я вместе с нашей квартирной хозяйкой терпеливо ждал их дома.
– Нет, – остановила папу мама. Насколько помнит она, я у них родился, когда папа уже нес службу в береговой обороне.
– А даже если и так? – ответил папа.
Ведь дело тут вовсе не в исторической точности, а в том, как себе то время представляет их сын. Одно дело думать, что в момент твоего рождения отец скреб днищем подводной лодки по дну океана. И совсем другое, если он в это время служил на берегу. Мама своей точностью просто всю романтику сводит на нет!
– Вот спокойно бы и плавали! – непонятно на что рассердилась вдруг мама. – Так ведь нет: нужно обязательно друг в друга пострелять! Или – того хуже – утонуть!
– Ну тонуть совсем необязательно, – попытался успокоить маму папа. – К тому же и было-то это всего один лишь раз.
– А мне достаточно и одного! – не успокаивалась мама. – И хорошо, что обошлось!
– Да если бы не вражеский самолет-разведчик, на грунт нашу лодку не уложили бы никогда! – загорячился было папа в ответ. – Да если бы!..
– Если бы да кабы, не росли б в лесу грибы! – вспомнил я вдруг.
– Что? – не сразу понял папа. А когда понял, рассмеялся. И, вместо того чтобы вспоминать его поросшие мхом грехи, посоветовал маме обратить внимание в моем свидетельстве на одно место.
– И что? – не поняла сразу мама.
– А то! – ответил папа. – Видишь? Видишь?
Я сунул нос в бумажку тоже! И вместе мы вдруг обнаружили, что я родился почти в самой-самой середине двадцатого века! С чем папа меня тут же категорически и поздравил.
Я на всякий случай сказал, что не виноват, так само собой получилось! Но папа ответил, что нечего тут переживать, ничего плохого в этом нет.
– Ну надо же! – обронила вновь заулыбавшаяся мама. И уже спокойным тоном заявила папе, что, в конце концов, береговая оборона – не самое плохое место для службы.
– Ну да, ну да… – рассеянно согласился с ней папа. А затем, сделав загадочное лицо и дождавшись, пока мы с мамой начнем умирать от любопытства, предложил всем нам посетить наш клуб с целью посмотреть кино. Если, конечно, никто из присутствующих не возражает.
Конечно же, не возражал никто, и первым в кино собрался я. Папа еще тер суконкой ботинки, а я уже стоял в пальто. Затем надел пальто и он, и мы принялись ждать нашу маму. Не говорили ничего, просто стояли. Мама говорила сама.
– Да! – сказала она. – Да! Ведь это вам не за дровами и не на колодец. А в кино, в общественное место. – Где быть красивой она просто обязана и посему дает себе право!
Сами мы: и папа, и я, считаем, что мама наша красива всегда. Но и кино не каждый день ведь тоже! Так что право она, конечно, имеет.
– И пусть мама даже не надеется, – добавляет тут же папа, – мы ее ни при каких условиях и ни за что и никому не отдадим!
– Не отдадим! – подтверждаю и я.
– Подлизы! – фыркает мама. У нее проблемы с брошкой, а мы!..
А мы и ничего! Мешать ей не будем. Папа сказал, что может даже отвернуться! Но едва он взял в руки газету, как мама тут же горько мне пожаловалась, что, похоже, в нашем доме, кроме сына, ее мучения в стремлении к красоте не волнуют больше никого.
– Но ты же сама!.. – опешил папа.
– Вот именно! – отозвалась мама. – Вот именно – сама! А посоветовать хоть что-то уже некому?
– Как некому? – как что-то непонятное, отбросил папа газету. – Как это некому?
И уже вскочил со стула! Но мама засмеялась и заявила, что – поздно. Пусть уже он лучше читает. Потому что если примется ей помогать, то в кино сегодня мы точно опоздаем. А помогать ей буду я, их с папой Саша, сын.
Папа с возмущением ответил, что это форменная дискриминация, что сын сыном, а у него тоже очень и очень недурственный вкус!
– Не сомневаюсь! – перебила его мама.
Но тут дело вовсе не во вкусе. А в папиных корыстных интересах, в которых у мамы есть все основания его подозревать. В том же, что папа эту газету уже читал, она нисколечко не виновата.
– Ах, так! Ах, так! – не зная, что ответить, воскликнул папа.
– Да, именно, – не стала спорить мама и, повернувшись снова к зеркалу, принялась красить губы. Внимательно-внимательно! Аккуратно-аккуратно! Будто достает из моего глаза соринку. А когда почти уже готово – раз! – и все стирает, чтобы потом опять начать сначала…
Красить губы непросто, но я бы попробовать мог… Хотя бы губнушку лизнуть… Но мама считает, что делать это мне все же не стоит. Ведь если лизну ее я, то как потом отказать в этом папе? И чем после нас будет красить губы она?
И я согласился: я что-нибудь лучше еще… Я потом сосульку на улице…
– И хорошо… И хорошо… – вглядываясь в свое отражение в зеркале, отвечает мама. И вдруг как брови в одну линию сведет! Как грозно на себя же и взглянет! Я даже немножко отошел.
А потому что! Вы бы посмотрели сами! Мама стала вдруг как будто и не мама. И я не знаю… Я как будто, может, ей уже не сын? А папа вовсе посторонний незнакомец. И сейчас она и с ним разберется! Надлежащим образом!
Такую маму испугался бы кто хочешь! А только мы так с папой не хотим! И я сказал! И мама тотчас снова улыбнулась, подобрела к папе, а я как будто вновь стал ей сыном! И, огладив на себе платье, она взяла в руки духи.
Духи у нас хорошие, «Красная Москва». И тоже мамины. А если бы были моими, то я ими бы просто облился и пах. А мама! Лишнего стараясь не пролить, по капелюшечке вытряхивает их себе на палец из флакона и эту капельку – себе за ушко! За другое! По чуть-чуть – на кружевной платочек, на платье, на запястья. Чтобы кому-то все это унюхать, нос в маму приходится просто утыкать. А если захочется понюхать и папе?
– Каждый решает проблемы по-своему, – смеется в ответ мама. И настоятельно просит папу к нашим разговорам не прислушиваться.
А папа и не собирался, сидит себе – читает газету!
– И очень жаль! – подбоченившись, говорит мама. А сама вся такая! Что папа, подняв немедленно руки, сказал за нас обоих, что мы с ним сдаемся.
– То-то же, – подобрев, откликнулась мама и позволила папе подать ей пальто. Еще раз взглянула в зеркало, поправила платок-паутинку, и мы затопали на выход. Спустились с крыльца, мама взяла папу под ручку! А из разных калиток уже тоже выходят наодеколоненные мужчины, их наряженные дочери и жены! И все смеются – потому что же – в кино! А снег скрипит! И так искрится! И луна!
А мама – молодая-молодая.
И папа – самый сильный в мире…
Рубрика:Роман Лары Галль «Не равняется любовь» у меня вызвал, как теперь принято выражаться, чудовищный когнитивный диссонанс.
Начать с того, что это крайне умное произведение, полное точных и тщательно выверенных наблюдений за людьми и человеческими чувствами.
Очевидно, что автор книги – внимательный и глубокий аналитик, много чего переживший.
Именно эти переживания (несчастная любовь, измена близких и близким, болезни и потери родственников) и вызывают к жизни текст, похожий на бурную, бурлящую речку.
Галль надо высказаться о том, что её волнует, вот она и волхвует в стиле «не могу молчать», с очевидными заносами туда, куда не следует (когда говорят больше, чем нужно), с постоянными проговорками.
Сюжет в таком романе необязателен, как он совершенно неважен в платоновских диалогах, которые тоже, ведь, льются для того, чтобы высказываться, а не для того, чтобы выстраивалась какая-то законченная фигура.
В таких текстах персонажи похожи на шахматные фигурки, слепо несущие в себе авторскую волю, обрамляющие основную творческую задачу, а она, как я уже говорил, состоит в том, чтобы высказаться.
Вот и высказывается девочка Ниночка про гада Димочку, который всю жизнь ей испортил.
Дима, вообще, странный персонаж, который не способен уйти от жены, мучаясь и, одновременно, мучая безответно преданного человечка, которая, к тому же, сама обременена не только семьей, но и ответственностью, состраданием и массой положительных свойств – так, что для меня становится очевидным, это и есть авторское alter ego.
Галль, что называется, прёт не по-детски, видимо, этот вполне реальный и осязаемый Димочка (жизнеподобия ему добавляет то, что в романе он описывается на непрямую, но чужими, любящими глазами) так достал Лару, что теперь, даже и распределив растрёпанность своих чувств между несколькими персонажами, она так и не может остановиться.
Для того, чтобы Нине было кому выговариваться, возникает фигура старика, похоронившего жену и больного раком (так в книгу входит тема физических, а не нравственных мучений, важная тема эвтаназии), который безропотно слушает Нинины излияния, кое-где вставляя в её бурный поток весьма проницательные реплики.
Кроме того, в текст вкрапляются всяческие рассказы, которые Нина переводит с других языков; они, понятное дело, иллюстрируют её историю, а так же задают ещё одну степень авторского отстранения.
Типа так меньше видно, что Лара Галль говорит во всех этих художествах правду
.
Хотя, с другой стороны, не исключаю того, что все эти «правдивые истории» - тоже конструкт, как и всё здесь: Галль, как я уже говорил, изощрённый и умный конструктор, пытающийся давить на все читательские кнопки.
Она идеально знает своего читателю – женщину со схожими переживаниями, вот и устраивает себе и ей как бы сеанс как бы психоанализа.
Волшебства с последующими разоблачениями.
И то, что я такую возможность хотя бы допускаю, говорит о том, что конструкция, в основу фабулы положенная, весьма подвижна и чётко сколочена.
Диссонанс, между тем, всё только нарастает, ибо мне, со стороны, все эти метания и постоянно заново проживаемые, переживаемые и многократно пережёванные страдания кажутся мелкими и такими же скучными как чужой сон.
Как-то особенно ясно, что девушка, постоянно вязнущая в каких-то микроскопических подробностях, сама хочет пострадать, поупиваться своими эмоциями, вместо того, чтобы заняться реальным (само)анализом и найти путь к решению проблемы, коли таковая имеется.
Ну, да, да, понятно к чему я веду: «Не равняется любовь» - идеальный образчик женской прозы, которая обращена исключительно к дамам.
Чужие, то есть, мужчины, здесь не ходят – им здесь нечем поживиться и не с кем идентифицироваться.
Поэтому книжка Лары Галль имеет, прежде всего, этнографическое значение – она прекрасно показывает из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки.
Причём показывает это замечательно – изнутри и наотмашь, однако, поскольку мужики в ней не подразумеваются, когнитивный диссонанс просто таки корёжит мужскую психику.
И я вспомнил, что же мне, на самом деле, этот эффект от Лариной книжки напоминает – в старой советской библиотеке фантастики я как-то прочитал фантазию итальянского утописта Альдани Лино «Онирофильм» про то, как в будущем придумали приспособления, с помощью которых просматриваемые порнофильмы воспринимались как твои собственные ощущения.
Ты надевал шлем, очки, перчатки, подключал к телу датчики и понеслась.
Онирофильмы, давящие на центр удовольствия, убили не только кино, но и нормальную половую жизнь, поскольку все с утра и до ночи сидели внутри этих гаджетов, и подобно крысам в лабораторной установке, давили на кнопки, приносящие кайфушечку, до полной гибели всерьёз.
Роман Лино, повторюсь, старый и нынешних экспериментов с триДэ не учитывающий, но их, безусловно, предсказывающий.
Важно, однако, не то, что итальянец напредвидел, но то, как он сформулировал моё собственное сегодняшнее неудовольствие, рассказав, что онирофильмы бывают двух типов – мужские и женские, весьма конкретно заточенные под нервные окончания определённого пола – и ни-ни в сторону.
Так, что если гаджет, предназначенный для женщин (которым создавалась объёмная голограмма мужской особи) примерял на себя парень (хм, а как же быть с гомосексуалистами?), то у него начинала болеть голова, ломило суставы и, в скором времени, его просто выташнивало.
Ну, и наоборот, женщинам ни в коем случае не разрешается контактировать с мужскими онирофильмами.
Очень своевременная и нужная книжка, возвращающая современных, психически потерявшихся людей к их сермяжным первоосновам.
Глава первая
Серафим
Скоро два месяца, как мне исполнилось шестьдесят семь. В Петербурге теплый ноябрь, и фонари на пути от Московского к метро «Балтийская» празднуют легкий туман в черноте.
Я болен, но без болей, это хорошая болезнь, потому что от нее я умираю.
Всё идёт неплохо, живу один, потому что моя Нина ушла на небеса в четверг три года назад.
И то, что я умираю - правильная вещь, но почему-то приключившаяся с опозданием, с трехлетним опозданием, а против четверга я ничего не имею.
Сегодня суббота, я вернулся с прогулки чуть позже и не один - заговорил с женщиной.
Она стояла на мосту, спиной к воде. Издалека мне показалось, она курит, но когда приблизился, понял - у нее во рту леденец на палочке. Чупа-чупс - так, кажется, их называют сейчас.
Женщина на вид лет сорока, полненькая, милая. Торчащая изо рта белая палочка придавала ей детский вид. Но в позе проступало отчаянье, я видел.
Остановился в метре от нее, постоял, посмотрел на воду - тусклую, с ночи не кормленную фонарным светом. Достал сигареты.
Не возражаете?
Она быстро потянула конфету за палочку, и рассмеялась.
Определенно, в ее облике было что-то детское. Моя Нина была такая же.
Зачем Вы курите? - спросила вдруг женщина-с-леденцом.
- Мне издалека показалось, что курите Вы.
Она сделала рукой такой быстрый жест, помогая себе ответить, чупа-чупс вырвался, и через ее плечо полетел в воду.
И женщина не дернулась обернуться и посмотреть.
Такие уходят, не оглядываясь, такой была Нина.
У Вас что-то случилось? - спросила потерявшая леденец.
- Меня зовут Серафим.
- У Вас сигарета так и не закуренная, Серафим.
Я улыбнулся и бросил сигарету в воду. На этот раз женщина повернулась к воде и смотрела как легкая палочка, нервно дергаясь от ветерка, падает в воду.
Я - Нина, - сказала тихо.
И тут мне стало плохо.
Почувствовал, что тянет набок и вниз, успел выдернуть из кармана диспенсер и закинуть в рот пару таблеток.
Новая знакомая - Нина, о Боже, Нина - сделала два шага, оказавшись совсем близко.
- Вы далеко живете? Проводить Вас?
***
...мы проговорили три часа, безголосая кукушка в часах высовывалась и кивала, гостья моя смеялась и плакала, "бирюзовый дракон" заваривался трижды, горка из кураги и кешью свелась к одинокому орешку, запятой свернувшимся на дне пиалы. Запятая – это хорошо, это «продолжение следует».
Мне шестьдесят семь, моя Нина умерла три года назад, и я всё ждал, когда же она позовет меня.
Сегодня. Она позвала меня сегодня.
Никакая комната в квартире, никакой угол, не хотят вместить меня, не хотят стать алтарем. Нина послала мне знак, и меня распирает от слов готовности, но я не могу, не могу их пролить не там, надо держаться.
Вечером новая Нина позвонила - «просто хотела убедиться, что с Вами вами все хорошо».
Новая Нина… я плачу, стариковская чувствительность, фу, чудовищная сентиментальность.
Скоро усну. Утром придет медсестра ставить капельницу. А к обеду обещала подойти и новая Нина. Принесет показать свои переводы. Я чувствую возникшее вдруг натяжение полотна жизни - так натягивают ткань, прежде чем разорвать надвое.
Помоги мне, Господи, сделать всё что должно, до того как. Если ты Ты сосредоточишь взгляд на этом полом кирпичном кубике моей комнаты, то вот он я - в кресле, старый кусок мяса в старой груде пружин и тряпья, и тебе одному известно, зачем оно так.
Commentarius ignoti
Мост, где Нина оказалась одновременно с Серафимом, не был мечен ничем трагичным - никто с него не прыгал в смерть, но в мостах много всяких смутно ощущаемых смыслов. Особенно, когда человек сгущает свою жизнь любовной мукой, как сейчас Нина, а мука - как ни поставь ударение - очень действенный загуститель.
Нине сорок лет, она замужем, и у нее роман - «вынужденный и вымороченный», говорит она, смеясь. Но чаще - плачет.
Нина - переводчик, сейчас у нее в работе сборник рассказов, но с одной и той же героиней, и от этого Нине кажется, что она переводит роман. Несколько текстов уже готовы, но что-то с ними не то - так ей кажется, и она боится переводить дальше. Героиня видится ей смутно знакомой, и то, что сегодня Нине встретился Серафим, поразило ее, как неожиданно прозвучавшее эхо - героиня только что переведенного рассказа как раз попала в схожую ситуацию встречи.
Сам же Серафим был впечатлен встречей не меньше, и то, что новую знакомую звали так же, как его умершую жену, превращало случайность в знак.
Я никак не мог успокоиться, курил, курил, ругал себя старым дураком за то, что не спросил Ниночкин email, ведь наверняка у нее есть электронная почта, можно было попросить переслать файл с ее переводами этих «таинственных» рассказов. Все равно ночь не спать, полнолуние, обычное дело, чтоб его… А она сама - тактичная девочка - не обмолвилась о почте, видимо, считает, что люди моего поколения далеки от компьютеров, что, в общем, правда.
Звонить уже поздно. Завтра.
Нина-первая послала мне Нину-вторую, и это знак, знак, и ничто иное, я давно уже готов к уходу, ждал его и жаждал.
У меня оставалось лишь одно дело, Нина, и потом я могу быть свободен, и уйти к тебе. И в этом деле я жду помощи от тебя - и разговоры с тобой не кажутся мне странными, как могло бы казаться общение с мертвыми. Какая же ты мертвая, если я жив еще пока.
Дело же это в следующем: месяц назад в больнице я увидел ребенка. Он, три года назад, младенцем еще, недо-сгорел в пожаре. Что-то взорвалось в доме, ребенка отбросило куда-то волной, да так, что отец найти не мог, погиб сам, пока искал. Мать спаслась. Но и ребенка - пятимесячного - нашли-таки пожарные. Полчаса младенец провел в огне. Сгорели правая рука до локтя, все пальцы на левой, ступни, нос, уши, веки, губы.
Сейчас мальчику три года. То, что осталось от конечностей, заплавлено ожоговыми рубцами, глазенки без век, нос без ноздрей, рот без губ, и «узоры» стяжек по коже, как морозные по стеклу, «кисточками». И голова деформирована сильно.
Я сразу испытал острое чувство тревоги и связи, как только увидел этого ребенка. При первой же возможности расспросил о нем своего врача. Выяснил, что ребенка привезли смотреть на готовность к следующей операции - а он уже перенес пятнадцать. Выходило, что последние два с половиной года каждые два месяца это тельце - это полутельце даже - оперировали.
И тут меня ударила наотмашь мысль о том, что люди понимают, скажем так, под гуманностью.
Этот несчастный комочек плоти оперировать раз за разом, длить и длить мучения, и это полагается гуманным и правильным... Чего-то я не понимаю в этой жизни. Или они технологии трансгуманизма на нем обкатывают? И я заметался по тесному периметру судьбы этого ребенка в поисках ответа.
«…серафим на перепутье мне явился…»
А я уже думала про яд, засовывая в рот этот дурацкий чупа-чупс. Почему есть леденцы с каннабисом, а с ядом нету - в таком, примерно, драматичном ключе, да. Леденец «Мадам Бовари», шикарное название.
Шла вдоль набережной Обводного, и ненавидела Димочкину жену - всего десять минут назад. Выдыхала горячо и солоно, как кровь, как слёзы: «Не твое, не твое уже давно, не думай, не трогай! Зачем ты есть, зачем?! Зачем ты у него всё еще есть, если уже давно есть я? Не надо тебя!»
И ведь казалось бы - ну что она мне теперь, когда я окончательно решилась на разрыв с ним…. Или я не решилась? Или я всё еще чего-то от него жду? Ну хорошо, да, жду. Всеми силами души втайне жду Чудесного рывка - после него Димочка перестает быть Димочкой, каким я его знала три года, вдруг становится таким, каким я хочу его знать, приходит за мной, берет за руку и уводит с собой. В свою жизнь. Дура я. Так не бывает, не бывает, не бывает, как бы тебе в это ни верилось. Это киношный трюк, эффект.
Иду, оглядываюсь, вижу фонарный столб - возле него меня корежило ненавистью, но уже не ощущаю ничего похожего. Неужели это я только вот недавно схаркивала эти слова? Я. Как же я себя не знаю всё-таки… Ведь она - хорошая женщина, лучше меня в сто раз, и это она - жена, а не я. Не я.
Пусть у тебя будет всё хорошо, - шепчу, глядя на воду, и плачу, - пусть тебя любят друзья, пусть тебя ценят на работе, пусть ты будешь здорова. И счастлива. И пусть ты будешь отдельно от него. От меня. От нас. Он должен быть свободен от тебя, чтобы освободить меня. Иначе, ничего не выйдет, окончится всё, как не начиналось.
А начиналось всё три года назад... [а продолжение в книге]
Аннотация с обложки:
"Это любовная история не из счастливых, каких много. Жизнь вообщe часто сталкивает в одном пространстве похожие пары: только у одних любовь равняется счастью, а у других - почему-то нет.
Представьте себе обычную житейскую драму: у нее многолетний благополучный брак, у него - нелюбимая жена, вредные привычки, патологическое вранье и острая тоска по теплу и пониманию, у них обоих - безумная, нерациональная тяга друг к другу. Знакомо? Да. И иногда даже заканчивается хеппи-эндом. Но как будет выглядеть такой сюжет, сыгранный немного замкнутой, аутичной идеалисткой и искушенным в манипулировании чувствами истероидом?
И как все-таки решается неравенство, если "жизнь" не равняется "любовь"?
От себя добавлю, что это лишь одна из сюжетных линий.
Рецензия в ТОПОСе http://www.topos.ru/article/7603
Купить в интернете например здесь http://www.ozon.ru/context/detail/id/7577887/